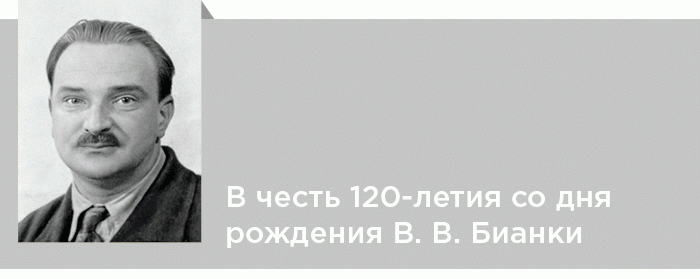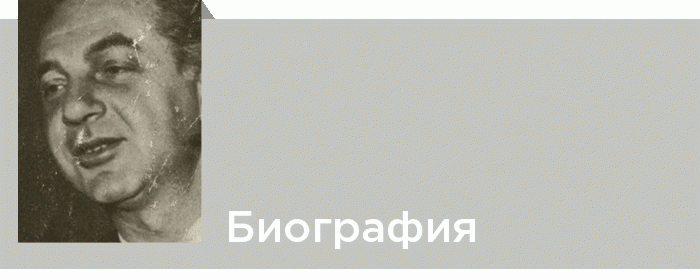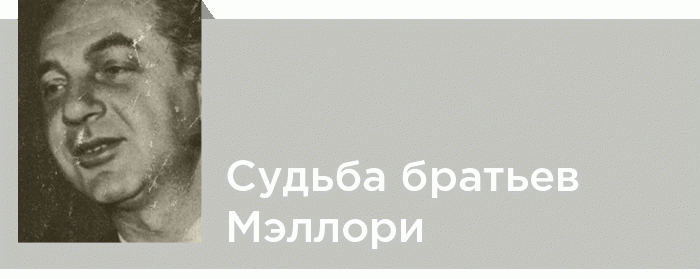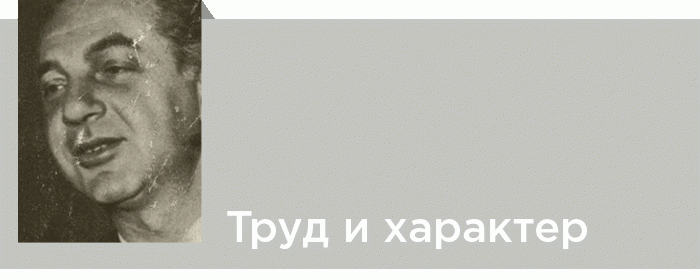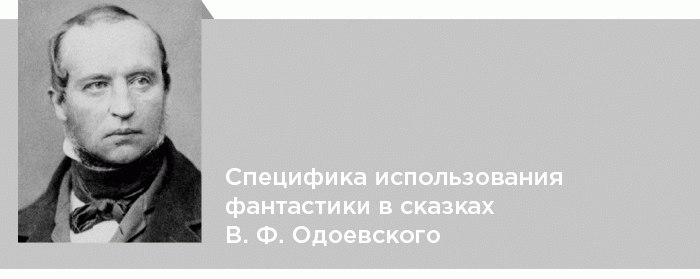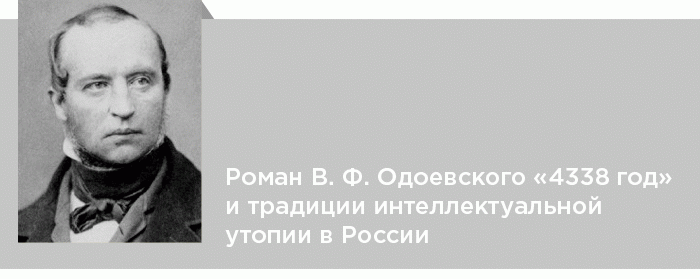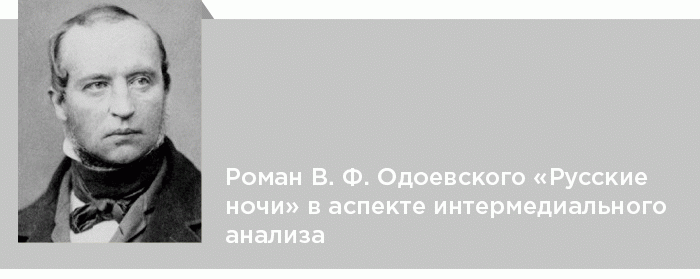Митчел Уилсон. Встреча на далёком меридиане
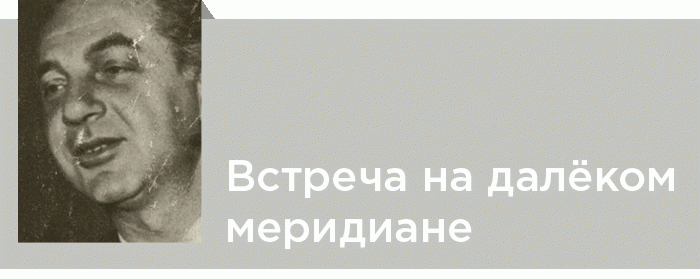
(Отрывок)
Человек должен быть причастен к деяниям и страстям своей эпохи, иначе могут счесть, что он никогда не жил.
Оливер Уэндел Холмс
В давние довоенные дни человеку со специальностью Реннета обычно отводилась лишь маленькая комнатушка в глухих закоулках университета - в ней только-только умещался простой письменный стол, заваленный нацарапанными наспех расчетами и графиками эксперимента, который мог когда-нибудь принести славу его автору. Среди всех этих бумаг обязательно валялись три-четыре письма от других физиков из Калифорнии, Лондона или Рима, подолгу остававшиеся без ответа, потому что он почти не выходил из своей лаборатории - чаще всего голой, похожей на погреб комнаты, где имелось несколько рабочих столов, раковина из мыльного камня и невероятно сложный прибор, с которым он работал в это время, - победа страсти и изобретательности над слишком скудным бюджетом, - прибор столь внушительный, что ни у одного непосвященного не хватило бы духу спросить: "Где тут передняя сторона, а где задняя?"
Впрочем, в те дни, когда многонациональное население мира физиков исчислялось лишь несколькими тысячами человек которые почти все знали друг друга хотя бы по имени, Реннету шел всего двадцать второй год, и он не сознавал, что начало его научной деятельности совпадает с концом целой эры, - эры, когда наука была наукой и еще не стала политикой, дипломатией или войной. В этом отношении он походил на молодого наследника престола, чье первое любовное приключение завершилось в ночь последнего бала перед революцией.
Он и тогда был очень высокого роста - на голову выше всех окружающих, но, несмотря на мальчишескую угловатость, особенно заметную, когда он стоял неподвижно, его походка была быстрой и решительной, в в ней уже начинало проскальзывать своеобразное изящество. Его темные глаза были посажены очень глубоко, и, когда он, сдвигая брови, отрывал взгляд от своего прибора, казалось, что он испытывает невыносимые душевные муки. Как раз в это время он начал коротко подстригать свои поразительно светлые волосы, потому что они были мягкими и тонкими, точно у ребенка, и их не удавалось пригладить никакой щеткой. И уже тогда, несмотря на его молодость, тонкий горбатый нос и длинный подбородок придавали ему сходство с белокурым Мефистофелем.
И по щекам его уже пролегли трагические борозды, словно след когтей после схватки с орлом. Когда он отрывался от своих расчетов и откидывался на спинку стула, его худое изможденное лицо дышало такой серьезностью, было полно такой печали и боли, что казалось, будто он не умеет улыбаться. Однако стоило ему улыбнуться, как в сиянии этой чуть удивленной улыбки исчезали все следы грусти и он становился похожим на озорного мальчишку.
Его лицо таило в себе пророчество уготованной ему жизни. Оно уже было таким, когда он, белоголовый мальчуган, самый высокий и тощий из своих сверстников, играл в футбол в Центральном парке, то и дело заслоняясь от солнца рукой в перчатке; оно было таким, когда он часами сидел в библиотеке МТИ [Массачусетский технологический институт] - по-прежнему самый высокий и худой из своих однокурсников, но к тому же и самый молодой из них - и, расстегнув ворот рубашки, закинув руки за голову, покачиваясь на стуле, изучал новейшие теории Полинга, Слетера и Франка. И так же он выглядел в 1940 году, когда ему предложили исследовательскую работу в Калифорнии и когда никто, глядя на его быструю, уверенную походку, не догадался бы, как он боится, что, если он в первый же день не докажет своей талантливости, его с презрением вышвырнут из лаборатории.
Революция воплотилась в величайший, самый испепеляющий взрыв, какой когда-либо видела Земля, и одним из ее причудливых результатов было то, что Реннет из принца крохотной страны, почти неизвестной внешнему миру, превратился в пэра международной державы, ставшей в сто раз больше прежнего и в десять тысяч раз значительнее.
И все же самый миг этой революции остался в нем не только как вновь и вновь возвращающееся воспоминание, но и как шрам, уродующий душу. Одно мгновение все было как всегда, как много месяцев до этого - обычная работа с самыми будничными на вид металлическими предметами и давно привычными кусками сероватого металла, - а в следующее мгновение то их сочетание, которое так давно искали, уже пожирало землю, небеса и все лежавшее за ними пространство бело-желто-лиловым пламенем.
Подчиняясь инерции годами выработанного профессионального взгляда на вещи, он ощутил яростное удовлетворение от того, что все расчеты и предсказания его науки так блистательно подтвердились. Но одновременно это видение гибели мира поразило его таким ужасом, что казалось, до самой смерти под маской его лица будут скрыты остановившиеся глаза и разинутый от изумления рот. Перед этим видением гибели мира побледнели и сошли на нет все фантастические образы Апокалипсиса. И уже в ту минуту, когда жгучий свет в небе стал медленно гаснуть, он знал: если, вновь увидев это, он не будет столь же потрясен, то не потому, что успеет привыкнуть к космическим масштабам того, что сам помог сотворить, но лишь потому, что какие-те человеческие чувства в нем притупятся до вялого безразличия.
К тому времени, когда секундой позже до него донесся звук взрыва, что-то в нем умерло, выгорело дотла - так молния уничтожает верхушку дерева, хотя остальные ветви остаются живыми и зелеными. Он принял участие в последовавшем затем обмене поздравлениями, он принял участие в совещании тех, кто присутствовал при взрыве, он написал свой отчет о действии силы, которую помогал создать, - все это время лишь смутно сознавая, что, собственно, с ним случилось. Названия для этого не было, но потом медленно, очень медленно парализующий яд стал пропитывать всю его жизнь, хотя и тогда он не понимал, что с ним происходит.
Даже теперь, когда он давно порвал с физикой разрушения мира и вернулся к физике созидания, в испуганных глазах своей эпохи он по-прежнему был окружен ореолом, неотделимым от проявленной им способности разрушать. Внешне карьера его была на редкость удачна. Он занимал то же положение, что и какой-нибудь промышленный магнат или модный певец.
Взамен тесного кабинета и скверне оборудованной лаборатории архитекторы, не понимавшие сути работы, которой он теперь занимался, соорудили для него здание, больше всего похожее на фешенебельный загородный клуб, а художники-декораторы, понимавшие эту суть еще меньше, так обставили комнаты и подобрали такие сочетания цветов, что безупречная и изысканно безличная приемная Реннета подготавливала посетителей только к тому, как выглядит его кабинет. Сам же он теперь, когда наконец осуществилось пророчество, всегда таившееся в его лице, производил по контрасту с окружающей его обстановкой впечатление странное и неожиданное.
В приемной скрытые лампы превращали белый потолок в море света. Встроенная в голубые стены картотека была почти невидима. Электрическая пишущая машинка в диктофон были самыми современными, самыми обтекаемыми. И даже женщина с такой нестандартной внешностью, как его секретарша Мэрион, казалось, была специально отобрана, отделана и одета в тон всему интерьеру.
В эту минуту она перестала печатать, чтобы прослушать несколько фраз с диктофона. Знакомый баритон, звучавший в наушниках очень тихо и мягко, произнес: "...но если энергия элементарных частиц превысит верхний предел..." - и умолк, потому что зазвонил телефон. Телефонистка междугородной станции вызывала доктора Никласа Реннета, даже не подозревая, что кладет начало цепи событий, которые приведут ко второму взрыву в его жизни.
- Одну минутку, - сказала Мэрион и нажала кнопку. Сквозь закрытую дверь она услышала, как в кабинете зазвенел звонок.
Отклика не последовало, но она ждала. Она знала, что он там: она видела, как он прошел туда упругим и уверенным шагом, свойственным красивым мужчинам, хотя он вовсе не был красив. Однако она знала, что он там, не только потому, что помнила, как он прошел туда с бумагами в руках, она знала это потому, что помнила охватившее ее ощущение. Каждый раз, когда он проходил мимо ее стола к себе в кабинет, к ней возвращалось спокойствие и теплое покровительственное чувство: он вернулся, она снова может встать между ним и внешним миром. Нет, она вовсе не была в него влюблена. И возмутилась бы, если бы кто-нибудь сказал ей это, потому что смотрела на себя - в тех случаях, когда удосуживалась мельком бросить взгляд на свою личную жизнь, - как на счастливую жену, чье сердце слишком занято для подобных мыслей.
Она позвонила еще раз со снисходительным нетерпением. Иногда он страшно раздражал ее манерой уходить в свои мысли и забывать все окружающее, но и это раздражение ни разу не испортило ощущения счастья, с которым она утром приходила на работу. Это было одно из тех удовольствий, в которых она себе не признавалась, так же как она никогда не признавалась себе, что ей приятно быть моложе и красивее, чем миссис Реннет; так же как никогда не анализировала свою радость - неужели это была радость? - смешанную с сочувствием к его молчаливому сдержанному страданию, когда Руфь Реннет без лишнего шума уехала, чтобы развестись с ним. Но это удовольствие оказалось недолговечным: слишком скоро его сменило раздражение, потому что неожиданно чуть ли не половина кливлендских дам начала звонить ему весь день напролет даже сюда, в институт, словно каждая из них только и ждала возможности подцепить его; и, наконец, еще одно приятное чувство - может быть, глубокое облегчение, - когда вскоре выяснилось, что эти легкие победы нисколько его не интересуют.
Разумеется, она не влюблена в него, сказала бы она негодующе, но теперь, когда его не оказалось в кабинете и, значит, теплое чувство, что он находится под ее охраной, обмануло ее, она внезапно испытала такую тревогу, словно обнаружила, что ее сумочка разрезана в все сбережения украдены. Она позвонила в третий раз, и в третий раз из кабинета не донеслось никакого ответа. Но как она могла не заметить, что он ушел?
Она поспешно позвонила в южную лабораторию. Его там нет, ответили ей. Он вернулся к себе в кабинет просмотреть расчеты мезонного телескопа. Вероятно, он сейчас у себя. И будьте любезны, напомните ему, что работа приостановлена, - все ждут его оценки.
- Непременно напомню, - сказала она с иронией и позвонила в аналитическую лабораторию, куда он мог пойти, чтобы посмотреть фотографии следов, снятых в камере Вильсона, или как там она называется; проработав два года в институте, Мэрион еще не знала, что такое, в сущности, космические лучи, не знала, если уж на то пошло, ни чем, собственно, занимаются физики, ни даже какую проблему решает он; она знала только, что это блестящий ученый и что, едва его увидев, она сразу почувствовала - вот человек, у которого она хочет работать.
А ведь он не был красив, он казался красивым только на первый взгляд: черты его лица были слишком неправильными, слишком резкими. И дело не в его глазах, темных, задумчивых и удивительно внимательных. Скорее всего, дело в том, как он смотрит - с симпатией и живым интересом, словно пытается увидеть и понять глубины вашего сердца.
В первый раз поймав на себе этот серьезный, внимательный взгляд, Мэрион внутренне затрепетала и медленно отвернулась, покорно наклонив голову, ощущая каждую проносящуюся секунду как удар тока. Вот сейчас он подойдет к ней сзади, его руки лягут на ее талию, затем медленно скользнут выше (как хорошо, что талия у нее тонкая, а грудь упругая), и он притянет ее к себе, целуя в волосы, и, если он будет молчать, ей останется только повернуться к нему, не размыкая его объятий, и поцеловать его. Она знала, что поступит именно так. Но если он скажет что-нибудь, ей тоже придется что-нибудь сказать - и сказать ей придется: "Пожалуйста, не надо!"
Секунды ожидания проходили одна за другой, и Мэрион почувствовала легкую дурноту. Она медленна повернулась к нему боком, словно что-то отыскивая в ящиках картотеки. И мгновение спустя вдруг поняла, что ничего не произошло и, не произойдет. Обернувшись, она увидела, что он не смотрит на нее. Его взгляд с тем же выражением был устремлен на место, где она стояла перед этим. Спустя секунду он начал тихо, с явным удовольствием насвистывать какой-то простенький мотив. Потом взял телефонную трубку и позвонил в механическую мастерскую.
- Я нашел конструкцию для этого синхронизатора. Идея зародилась у меня всего минуту назад. Идите сюда, я набросаю вам эскиз.
Так, значит, этот взгляд не имел к ней никакого отношения! Она не чувствовала ни обиды, ни разочарования и была просто глубоко благодарна ему за то, что он не разбил ее жизнь: ведь она очень, очень хорошо знала, что случится, если он когда-нибудь властно или хотя бы неуверенно обнимет ее. Ее брак, ее будущие дети, семейный очаг, ради которого она трудилась, - все это исчезнет, рассеется как струйка дыма. Она просто ничего не сможет с собой поделать. Но при этом она по-прежнему была готова поклясться, что не влюблена в него.
Однако где же он? Она позвонила в механическую мастерскую, затем в библиотеку. Его не было и там.
Она снова задумчиво поглядела на закрытую дверь его кабинета и вдруг решила позвонить еще - в последний раз. Опять никакого отклика. И тогда, не задумываясь, что и почему она делает, Мэрион быстро подошла к двери и распахнула ее.
Сине-серая комната была пуста. Синие кресла вокруг стола для совещаний были пусты, серое кожаное вращающееся кресло у его письменного стола было пусто и повернуто так, словно он встал и ушел, ни к чему не прикоснувшись, даже не взглянув на то, что оставил. За большим окном в дальнем конце кабинета видны были только зеленеющие весенние газоны и чистое голубое небо.
Эта пустота заставила ее сердце забиться от ужаса. Она быстро и испуганно шагнула в комнату, чтобы заглянуть за дверь, и вздрогнула - он сидел на низком подоконнике и смотрел на нее, с небрежным изяществом закинув одну длинную ногу за другую. В левой руке он держал пачку бумаг это были, как она знала, расчеты мезонного телескопа, - а правой машинально подбрасывал и ловил кусочек мела, даже не глядя на него. Его глаза были пусты, но сперва она не заметила в них застывшего ужаса; ей показалось, что она видит только удивление, словно он недоумевает, с какой стати она ворвалась к нему.
- Что случилось? - спросила она.
- Ничего. - Его губы едва шевелились, он продолжал не отрываясь смотреть ей в лицо.
- Но разве вы не слышали, как я звонила? Я звонила четыре раза, сказала она, чувствуя такое огромное облегчение, что ее слова прозвучали сердито. - Я думала, что вы умерли. Я совсем голову потеряла от страха. Если вы еще раз меня так напугаете, я вас убью! - Она подошла к столу и взяла трубку телефона. - Доктор Реннет здесь. Будьте так добры включить своего абонента. - Она посмотрела на него через стол, все еще не замечая его состояния. - Я в самом деле вас убью, хоть вы и мой шеф, хоть вы и великий физик!.. Да, да, слушаю, - тон ее из выжидательного стал раздраженным, - конечно, мы можем подождать, но это Кембридж вызывал нас, а не мы Кембридж.
- Кембридж! - Размеренные взлеты мелка прекратились. Доктор Реннет с трудом заставил себя сосредоточить внимание на ее словах. Его приглушенный голос зазвучал сильнее, чуть громче, а глаза оживились. - Значит, это насчет Гончарова, насчет русской делегации. Я сейчас подойду.
- Да, - сказала она сухо. - Придется немного подождать.
- Телефон звонил совсем рядом, - продолжал он с нарастающим изумлением, - а я сидел и смотрел на него. Я хотел взять трубку, я собирался взять трубку, но не мог пошевелиться. - Он повернулся к ней, словно прося ее почувствовать, как это невероятно. - Я не мог пошевелиться...
- Что-что?..
- Я не мог пошевелиться, - с тем же ужасом повторил он еще раз. - У меня перед глазами... - Он оборвал фразу. - Словно телефон звонил очень далеко или я слышал его сквозь сон. Почему-то казалось, что все это не имеет никакого значения.
Он умолк, вскочил с подоконника я, по-прежнему хмурясь, подошел к письменному столу. Он снова стал самим собой.
- Ну, что там? - спросил он.
- Телефонистка попросила подождать.
- Значит, будем ждать.
Он опустился в кресло, залитое солнечным светом, и опять уставился на сколотые скрепкой документы, которые ему предстояло одобрить или отвергнуть; он медленно двигал подбородком из стороны в сторону в ложбинке стиснутого кулака, и при этом движении над его красиво очерченным затылком вспыхивали золотые огоньки. Через секунду он уже, казалось, забыл и о ее присутствии. Она знала, что четвертого октября ему исполнится тридцать восемь лет. Она знала, где он родился, как звали его родителей (Фредерик и Сесиль), где он учился, - словом все, что было о нем написано, - в мучилась из-за этого порабощающего интереса, который владел только ею, но не им. Он мог разбить ее сердце, в она ненавидела его за то, что он этого не знает. Четыре года назад она пришла проинтервьюировать его для радиостудии и осталась работать у него секретаршей, а он до сих пор не понял - почему.
Она со злостью и удивлением подумала: "И надо же, чтобы такой безобразный сукин сын иногда казался таким красивым!" Затем ужаснулась грубости своих выражений, но тут же убийственно ровным голосом произнесла вслух:
- И надо же, чтобы такой безобразный сукин сын, как вы, иногда казался таким красивым!
Он удивленно поднял на нее глаза и от неожиданности рассмеялся.
- Извините меня, Мэрион, - сказал он, но вдруг его улыбка угасла и в глазах снова появился испуг. Он прижал ладони к вискам. - Боже мой, негромко сказал он и крепко придавил пальцами глаза. - Боже мой... вздохнул он.
У него не хватило сил кончить. И теперь, когда она наконец поняла, что его молчание родилось в глубинах, каких она никогда не измерит, ей захотелось бросить телефонную трубку, обхватить руками его голову и прижать ее к своей груди, чтобы дать ему хоть как-то отдохнуть и успокоиться. Было невыносимо думать, что он так страдает. Впервые, если ее считать того времени, когда от него ушла жена, ей довелось увидеть мрак, таящийся в его душе: внешне он всегда был точно таким же, каким показался ей в первый раз, когда ее покорили кипучая энергия его ума, легкость и свобода его движений и непоколебимая внутренняя убежденность.
Этот внезапный испуг заставил ее по-новому заглянуть за решетку написанных о нем строчек, и только теперь она смутно осознала всю сложность прошлого, крывшегося в кратких сведениях о годах столь давних, что даже он сам их забыл, если не считать туманных полувоспоминаний о том, как жилось маленькому ребенку, единственному ребенку в доме, где весь день едва слышно жужжала тишина, а из кухни, в дальнем конце большой старомодной квартиры, доносился приглушенный звон посуды и кастрюль - там кухарка занималась своим делом, словно была совсем одна, и лишь изредка прислушивалась, не раздается ли шум, не случилось ли с мальчиком беды: но шума никогда не бывало. Мальчик примирился с тем, что его мать каждое утро уходила из дому почти сразу вслед за отцом: он отправлялся в школу, директором которой был, а она - в нижний Ист-сайд, где работала врачом-акушером.
В документах, которые читала Мэрион, значилось: "Мать - Сесиль, врач"; но разве можно было по этим словам представить себе пухленькую небрежно одетую женщину с выбивающимися из прически белокурыми прядями, неглупую, хотя и лишенную воображения, с рассеянными голубыми глазами за сверкающими стеклами пенсне? В документах не говорилось также, что для маленького мальчика она в своей несказанности уже не обладала никакими индивидуальными чертами и ее можно было только обожать и глядеть на нее широко раскрытыми глазами, в которых таилась тоска и покорное приятие ее ежедневных исчезновений, ибо этого требует ее долг, как она часто ему говорила. Многим-многим людям нужно, чтобы она уходила, и ему следует учиться самостоятельности. Ее отец был часовщиком, рассказывала она, а ее мать умерла от родов, когда они много лет назад плыли в Америку из Копенгагена. Ей тогда только исполнилось десять, и хотя с тех пор прошло больше двадцати пяти лет, она помнила это совершенно ясно. И будет помнить всю свою жизнь, говорила она строго, а стекла ее пенсне блестели в тусклом свете длинной сумрачной прихожей, и мальчику начинало казаться, что она на него сердится, и он только молча кивал головой - да, он понимает, ее нельзя задерживать, ее ждут больные.
Однако, хотя ее мысли всегда были заняты другими, ему до боли хотелось быть с ней, и весь долгий тихий день он пытался заглушить эту боль, придумывая какие-нибудь увлекательные игры: распутывал сложные узоры на турецком ковре в гостиной или воображал, что он - один из кавалеров с репродукции картины "Общество в парке" Ватто, которые так весело проводили время над декоративным камином. Он вспоминал о матери, только когда игра переставала его занимать. Тогда он начинал лихорадочно придумывать себе новое развлечение.
Когда ему открылась тайна телефона и он убедился, что неведомая "станция" действительно соединит его с номером, который он называет, он принялся запоем изобретать поводы, чтобы днем звонить матери, - ему просто хотелось услышать ее голос. Но она или бывала с ним резка и нетерпелива, или, что было еще хуже, выслушивала его до конца с терпеливой скукой, и он яснее, чем когда-либо, чувствовал, как мало он ее интересует. "Ты должен понимать, что мне надо заботиться об этих бедных людях. У них нет никого, кроме меня, это мой долг. Они больные". - "Да, я все понимаю. Я понимаю. Только..."
Некоторое время он томился желанием заболеть, потому что на больных людей обращали внимание, о них заботились. Но он был здоровым ребенком, и любая боль, как бы глубоко он на ней ни сосредоточился, проходила через несколько минут. А в придуманную им боль он сам так мало верил, что, начиная перечислять по телефону симптомы, чаще всего неуверенно умолкал, не докончив. Однажды, когда он говорил более убедительно, чем обычно, и мать вернулась домой днем, она страшно рассердилась на него, и он испугался, что теперь она больше не придет домой, и по-настоящему удивился, когда вечером она вошла в квартиру и принялась весело рассказывать мужу, как трудно, но интересно прошел у нее этот день. Тогда он научился не выдавать своих чувств и стоически переносил ноющую боль в сердце, не сознавая, что, хотя он и не умел описать ее, она была по-своему сильнее и страшнее любой боли, какую он изобретал. Он решил, что это ощущение и есть жизнь, и принял его без малейших протестов.
Его отец тоже был поглощен своими обязанностями - из года в гад он нес ответственность за тысячу с лишним мальчиков. Родители Ника были хорошие люди, увлеченные своей работой, и они гордились собой и друг другом, потому что посвятили себя служению человечеству в стране, где все остальные гонялись за Всемогущим Долларом. Но с тупостью полуинтеллигентных людей и с бесчувствием людей отвлеченно добрых они не замечали, что алчность не единственный грех против любви, а обсуждая за обедом свои служебные дела, считали само собой разумеющимся, что заботы о чужих людях каким-то образом освобождают их от обязанности окружать таким же вниманием ту единственную жизнь, которая непосредственна и больше всего зависит от них.
Маленький мальчик молча сидел за столом между ними, слушал их разговоры, не понимая и половины, недоумевал, как ему удастся, когда он вырастет, стать достойным их возвышенных принципов, и с тоской думал, что никогда он не сумеет совершить ничего, что заставило бы их наконец обратить на него взор, исполненный удивления и любви. Время от времени его мать вспоминала, что пренебрегает своими родительскими обязанностями, и пыталась за двадцать эмоциональных минут возместить то, чего не делала много лет, нервируя мальчика и сбивая его с толку этими неожиданными взрывами нежности; точно так же изредка выпадало воскресное утро, когда его отец входил в комнату, ласково улыбаясь, и говорил с неловкой веселостью - он был по натуре человеком сдержанным и серьезным: "Ну-ка, сынок, скорее, надевай пальто и пойдем с тобой в зоопарк. На этот раз только мы, мужчины".
Документы, которые Мэрион читала так часто, что знала их почти наизусть, сообщили ей совершенно точно, как он провел следующие годы своей жизни: начальная школа - 93-я Манхэттенская; средняя школа имени Таунсенд-Гарриса; Массачусетский технологический институт; бакалавр наук, доктор наук; стипендия Эмерсона и место в лаборатории Калифорнийского технологического института. Однако документы не рассказали ей о том, как за этот срок мальчик, подавленный своей болезненной чувствительностью, медленно и упорно превращал себя в мальчика, весь вид которого надменно заявлял о том, что он ни в ком и ни в чем не нуждается; но эта надменность мгновенно сменялась сияющим безмолвным удивлением и благодарностью всякий раз, когда ему что-то давали без его просьбы.
С тех пор ураган лет сдул обрывки и лохмотья всего, что не было самой сутью его личности, оставив ее жесткой и цельной. И вот таким увидела его Мэрион во время их первой встречи. Когда она пришла взять у него интервью, он был в подземной лаборатории, где руководил экспериментом на массивной высоковакуумной установке - огромном, до потолка, куске семислойного пирога из железа и бронзы. В самой середине пирога находилась крепко затянутая болтами герметическая железная камера со стеклянным окном. Каждые несколько минут окошко в вакуум стремительно вспыхивало, становилось ослепительно ярким и раздавался громовой удар, точно в тысячах окон гигантского дворца ветер одновременно хлопнул всеми шторами; однако, хотя ей этот свет и грохот казались невыносимыми, он почти не поворачивал головы к установке и всего несколько раз прервал интервью, чтобы дать какие-то указания ассистентам у пульта управления. Он вел себя так, словно эта невероятно сложная машина, предназначенная для изучения физики космоса, машина, которую он сам придумал, спроектировал и построил, была проще обыкновенных ножниц. Невозможно было вообразить, что у него тоже бывают сомнения или колебания, или что ему тоже иной раз нужна чья-то ласка и поддержка, или что придет день, когда она сама вдруг не сумеет понять этого человека, которым так восхищается, и начнет упрекать его за то, что он не ведет себя с надежной рассудительностью бухгалтера или управляющего делами.
Сейчас ей было так стыдно, что она не могла даже извиниться. Она стояла, словно маленькая девочка, не знающая, как загладить обиду, о которой она будет сожалеть всю свою жизнь. Он, однако, снова не заметил ее состояния и продолжал, растерянно хмурясь, покачивать головой.
- Столько лет я хотел повидать этого Гончарова, - сказал он с тихим недоумением, к которому теперь примешивались злость на себя и страх. - И как раз на этот телефонный звонок я не мог ответить, потому что был не в силах пошевелить пальцем. Что со мной будет дальше?
Затем лицо его стало непроницаемым, и она поняла, что на эту тему он больше говорить не будет. Он снова повернулся к лежавшим перед ним расчетам мезонного телескопа. Они уже измялись - так долго он сжимал их в руке.
- В мастерской ждут, чтобы вы одобрили эти расчеты или дали какие-нибудь указания, - сказала она мягко. - Может быть, вы что-нибудь продиктуете мне, пока нас не соединили?
Он несколько секунд тупо глядел на нее, а потом, осознав наконец, что она сказала, ответил:
- Я их еще не смотрел.
Она знала, что он уже целый час смотрит на эти расчеты, но она поняла также, что он хочет остаться один, и молча вышла из кабинета.
Он сидел за своим столом, сцепив длинные пальцы, но под его неподвижностью крылась буря, зажатая в жесткие тиски. Потом ценой невероятного усилия он заставил себя выкинуть из головы страшное воспоминание об этом непонятном духовном параличе. Он аккуратно снял скрепку с бумаг, как проделал это уже час назад, и снова начал вглядываться в слова и чертежи. Через секунду он в отчаянии закрыл глаза, так его сознание опять отказывалось что-либо воспринимать. "Что со мной происходит? - кричал он беззвучно. - Куда все это делось?"
Было время, когда такая проверка очередного эксперимента вызвала бы у него большой душевный подъем. Идеи нахлынули бы на него горячей творческой волной. И хотя его прозрения были теперь бесконечно более точными и острыми, чем прежде, их бесстрастно порождала лишь какая-то внешняя часть его сознания.
В те далекие дни волнующая увлекательность его работы казалась ему настолько само собой разумеющейся, что он ее почти не замечал. Он занялся физикой космических лучей после того, как проблема электронных линий была полностью исчерпана, однако открытие ядерных ливней в атмосфере было еще более заманчивым, и сперва он вложил в исследование их природы всю свою изобретательность и силу воображения - так прежде он занимался физикой атомной бомбы. Освободившись от ненавистной работы, он едва успевал справляться с решениями новых проблем - до того быстро они у него возникали.
Идея эксперимента с пи- и мю-мезонами пришла ему в голову солнечным утром, когда он подводил свой автомобиль к институтской стоянке. Вся картина процесса распада возникла перед его глазами так ясно, что казалось, он мог ее коснуться, а когда он вынул ключ из замка зажигания, в его мозгу уже полностью сложилась схема прибора для этого эксперимента. От волнения и восторга у него перехватило дыхание. Шесть месяцев спустя у него почти так же возникла идея его уравнений диффузии, словно, вытираясь после душа, он внезапно открыл то, что знал всегда, хотя и не сознавая этого.
Благодаря подобным внезапным открытиям в собственном сознании он был всегда необычайно интересен самому себе, потому что, казалось, не было конца фантастическому разнообразию сокровищ, еще скрытых, но вот-вот готовых засверкать перед ним без всякого усилия с его стороны, когда ан этого совсем не ждет. Каждое прозрение требовало напряженной и сосредоточенной работы, потому что нужно было успеть исследовать и проверить его, прежде чем перед ним вдруг вспыхнет новое открытие.
В те дни жизнь была захватывающе интересна. Он работал потому, что страсть к работе не отпуская вела его вперед. Он никогда не задумывался, почему выбрал эту работу и занимается именно ею. Просто все остальное казалось по сравнению с ней пресным и скучным, каждый день, даже неудачный, был волнующим приключением, потому что и разочарования, и восторг он ощущал с одинаковой силой. Что бы ни было сейчас, завтра дела обязательно пойдут лучше. Люди, не имевшие отношения к его науке, не знавшие, как все это бывает на самом деле, учено, напыщенно, а иногда с почтительным трепетом писали, что он слуга человечества, принадлежит к авангарду современного общества, а то еще даже - что он первосвященник чего-то там такого; но ни он сам, ни его коллеги никогда не прибегали к таким выражениям. Ощущение творчества было совсем другим - очень личным, совершенно непередаваемым, и он никогда не отделял это ощущение от самой работы, пока где-то в глубине его сердца они не разделились сами собой, когда яд, медленно распространявшийся с момента шока, вызвал духовный паралич. Кошмарная картина снова встала перед навеки испуганными, остановившимися глазами и открытым в изумлении ртом, картина, никогда не исчезавшая из его памяти, - пораженное молнией дерево, половина которого по-прежнему зеленеет, а другая в одно жгучее мгновение превратилась в ничто. Творческие мысли стали приходить все медленнее, все реже, и теперь в них уже не было радости - наоборот, они приносили с собой грусть.
Теперь он был похож на человека, который больше не ведает жара любви, но совершает ее акт так умело" что каждую секунду женщина чувствует и удовлетворенность и томление, пока наконец, искусно вызванная мука не перейдет в экстаз, а сам он все это время, несмотря на свою мастерскую технику, не испытывает ничего, кроме последнего холодного взрыва ощущений, не лучше и не хуже тысячи изведанных прежде.
Вот это отсутствие страсти и было самое худшее - хуже, чем пустота в сердце: само онемение становилось болью. Он тосковал по новым идеям и палящему биению жизни. Он в пятый раз отложил расчеты, оттягивая решение с часу на час, со дня на день - до того времени, когда в нем вновь пробудится прежняя страстная заинтересованность. Как страшно было думать, что этот холод останется в нем до конца жизни! И он вел свирепую внутреннюю борьбу против удушающего равнодушия, за возвращение прежнего великолепия чувств.
Он вел эту борьбу без всякой жалости, потому что нельзя было терять ни минуты: эта оледенелость пугала его даже не сама по себе, хотя она тоже была страшна; больше всего он боялся, что она - только прелюдия к полному мраку, к тому времени, когда в его мозгу не будут пробуждаться и самые банальные идеи, а тогда бороться уже будет поздно. Тогда он станет живым мертвецом.
Нет, он не хотел сдаваться. Он заставлял себя продолжать работу сохранять внешнюю форму своей творческой жизни. Он никогда не жаловался и ни разу - если не считать единственного срыва, свидетельницей которого оказалась Мэрион, - даже намеком не обмолвился о том, как иногда застывает его сердце. Но прячась за этим фасадом, он брел наугад по дням своей жизни, словно блуждая в незнакомом лесу, и тщетно ждал какого-нибудь знака - пусть самого незаметного, какого-нибудь звука - пусть самого слабого, который вывел бы его назад, к ясности. Вновь и вновь его постигало разочарование, но твердое решение не уступать поддерживало его, как стальная опора. Сейчас все его сознание, все его нервы были настроены на приезд Гончарова, словно этот человек, которого он никогда не видел, чьего голоса ни разу не слышал, чья жизнь, вкусы и характер были ему совершенно неизвестны, уверенно шел к нему через густую чащу, - и этой встрече было суждено его воскресить.
В каком-то отношении этот незнакомец стал для него самым близким человеком на свете, потому что, поставив свой важнейший эксперимент. Ник узнал, что почти в ту же самую минуту почти на противоположной стороне земного шара к этому человеку пришло точно такое же озарение. Ника поразило своеобразие мышления этого человека: сам он отбросил сотни возможных вариантов своего прибора, прежде чем выбрал тот, который мог лучше всего проверить его теорию, но этому человеку пришел в голову еще один вариант, такой же новый, такой же точный и в то же время основанный на принципах, о которых Ник даже не подумал. И когда Ник после двух лет напряженной работы получил один результат, Гончаров опубликовал чуть-чуть иной. И все же, как бы ни были различны миры, в которых жили эти два человека, как бы ни были различны оттенки истины, которую они открыли, между ними оставалось то общее, что позволит им, когда бы и где бы они ни встретились, без всяких предисловий приступить к подробному обсуждению того, что для обоих важнее всего на свете; правда, Ник не представлял себе, как может эта встреча вызвать столь необходимое ему чудо, но все это время ветры интуиции свистели в его ушах, крича, что именно так и будет.
Неожиданный телефонный звонок из Кембриджа мог означать что угодно - и то, что встреча произойдет строго в намеченный срок, и то, что приезд русской делегации вообще отменяется.
Он вскочил и отошел от стола, так как слишком долго пробыл наедине со своими мыслями. В присутствии других людей его внешнее "я" все еще было решительным, энергичным, бодрым. Но прежде чем он успел выйти из кабинета, дверь приоткрылась, в ней появилось мужское лицо, и по кабинету скользнул слегка насмешливый взгляд.
- Что будет, если я рискну войти без доклада?
- Леонард! - воскликнул Ник, искренне обрадованный, потому что Леонард Хэншел воскрешал все то лучезарное волнение, которое испытывал Ник, когда перед войной приехал в Калифорнию из МТИ. Хэншелу стоило только остановиться на пороге кабинета, чтобы показать, какой стала теперь его, Ника, жизнь. - Входите, конечно, входите!
Хэншел выглядел моложе, бодрее и солиднее. Прекрасный темно-синий костюм, изящный носовой платок дышали строгой элегантностью, не имевшей ничего общего с тем неотглаженным видом, какой был у него в дни, когда его имя сияло настолько ярче имен всех остальных американских физиков, что попасть в число его ассистентов уже значило оказаться среди избранных. За двенадцать лет, минувших со дня окончания войны, Хэншел постепенно покинул мир лабораторий, университетов и научно-исследовательских институтов, От длинных растрепанных волос не осталось и помина - теперь лишь седая аккуратно подстриженная бахромка окружала его сияющую лысину, которая придавала ему еще более лощеный вид. Он даже по комнате прошел, как человек, который теперь знаком с президентами и премьер-министрами, как человек, который теперь то в дело совершает полеты в Европу и которого в аэропортах всего мира встречают черные лимузины с маленьким посольским флажком, трепещущим над радиатором.
- И мне это ужасно нравится, - сказал он, изящно опустившись в кресло наискосок от Ника и покончив с приветствиями. - Ей-богу, я гляжу в зеркало и вижу, что я был создан, чтобы быть лысым и шестидесятипятилетним и заниматься дипломатической физикой. Целых пятьдесят лет я оставался подростком. Слава богу, теперь это позади!
- Вы, кажется, довольны жизнью, - заметил Ник. - А как Эдит?
- Эдит? - переспросил после паузы Хэншел излишне веселым голосом, словно в эту минуту, когда ему было так хорошо, напоминание о вечно всем недовольной женщине, от которой он каждое утро после завтрака бежал, отделавшись покорным поцелуем, было запрещенным ударом и ему оставалось только принять его с гордой невозмутимостью. Он добавил добродушнейшим голосом: - Чудесно, ей тоже все это очень приятно.
- Я в этом не сомневался, - сказал Ник, и только в таких словах он и мог выразить всю свою ненависть к этой даме, к ее жеманству, ее мелочности, ее невыносимому самодовольству, к тому, как она гордилась остатками былой красоты - своими холодными синими глазами и орлиным профилем - и как презирала работу мужа и его коллег и ассистентов - все, как на подбор, жалкие неудачники по сравнению с людьми, за которых она могла бы выйти замуж, не будь она в 1923 году так глупа. Для группы, работавшей под руководством Хэншела, строение атомного ядра и то не представлялось такой тайной, как вопрос, почему подобный человек терпит ее болтливое чванство, почему он не выгонит ее, дав ей хорошего пинка в ее надменный зад; но из лояльности к шефу они старались находить для него оправдания, хотя женатым сотрудникам бывало нелегко умиротворять своих жен, восстававших против ее мелочной тирании.
- Ваш новый образ жизни, должно быть, ей очень нравится.
- Он больше соответствует ее характеру, - ответил Хэншел доверительно. - Правда, Эдит обычно остается в Вашингтоне и редко ездит со мной. Все же эта новая обстановка подходит для нее гораздо больше. Вы ведь знаете, Эдит так и не удалось приспособиться к унылому однообразию университетской жизни. Она всегда стремилась к чему-то более...
Она всегда была дурой, чуть не сказал Ник, но вместо этого помолчал минуту, а затем спросил:
- И вы не скучаете по исследовательской работе? По лаборатории?
- Скучаю? - Хэншел посмотрел на него и медленно улыбнулся. - Я испытываю невыразимое облегчение, точно у меня жернов с шеи сняли. Раньше, когда физик старел и терял то, что делало его хорошим физиком, он полностью выходил в тираж. Вы ведь сами знаете, что такое состарившийся исследователь - лабораторные приборы, из года в год покрывающиеся пылью, потому что новых опытов больше не ставится, это выражение его лица, когда он входит в комнату, где идет чей-то чужой семинар или коллоквиум, или забредает в чужую лабораторию; ну, вы знаете - страшная грусть, стыд, смущение. Такие люди похожи на призраков и чувствуют себя призраками. Даже жены считают их стариками. Ну, а мне не приходится испытывать ничего подобного. Я тружусь. У меня увлекательная работа. Только теперь я по-настоящему почувствовал вкус к жизни. Мир для физиков изменился, Ник.
- Это мы во многом его изменили.
- Вы правы, черт побери! - воскликнул Хэншел. - Мы его всегда меняли. Но прежде эти перемены замечались только через пятьдесят лет. А теперь мы так его изменили, что человечество сразу поняло, чего мы добились. Впервые в истории эти сукины дети отвечают за то, что делают, под угрозой собственной гибели. И надо сказать, давно пора.
Ник слегка улыбнулся.
- Вы говорите так, словно мир распался на два воюющих лагеря - физики против всех остальных.
- В душе я, может быть, именно так и считаю, хотя и отошел от научной работы, - признался Хэншел. Потом он покачал головой. - Исследовательская работа - это ваш удел, удел молодых, а я для нее больше не гожусь. В свое время я выдвинул несколько счастливых догадок, а когда сумел доказать, что я прав, то приобрел репутацию талантливого ученого. Только и всего. Теперь, оглядываясь назад, я убеждаюсь, что у меня, пожалуй, никогда не было того подлинного огня, той одержимости, какой обладают первоклассные исследователи.
Ник поглядел на него, стараясь не показать, как сильно его резануло ироническое самоуничижение старика. Скромность - это одно, объективность другое, но такие слова, как бы мило они ни были сказаны, - это сознательное оплевывание блестящей работы, и не только своей собственной, но и всех, кто работал вместе с ним. Неужели ему так необходимо оправдать свой брак, что в конце концов он стал смотреть на себя глазами своей жены? Нет, этого не может быть. Как бы Хэншел ни изуродовал свою жизнь союзом с избалованной мещанкой, он все же оставался человеком, который умел постигать и людей, а не только мир мертвой материи.
- Вы принадлежите к немногим счастливчикам. Ник, - говорил он любезно. - А вы сами это понимаете? Едва вы в первый раз испуганно переступили порог моей лаборатории, я сразу понял, что вы настоящий физик. Ваш талант проживет столько же, сколько вы сами. И вот почему я без всяких угрызений совести собираюсь попросить вас года на два расстаться с лабораторией и поехать со мной в Женеву. Для большинства два года - слишком долгий срок, они уже не могли бы вернуться к прежнему. Но такой человек, как вы, может позволить себе подобный перерыв и все же вернуться затем к исследовательской работе.
- В Женеву? - переспросил Ник. Он внимательно посмотрел на своего изысканно любезного собеседника, прикидывая, что кроется за этими умными серыми глазами: прозрение или слепота. На миг его охватила тревога, словно предстояло разоблачение какой-то тайны. - Почему вы приглашаете именно меня? - спросил он осторожно.
- Потому что мне нужен человек, интересующийся проблемами космоса, и потому, что именно сейчас вдруг наступило время для переговоров в этой области. Ник, просто голова кружится, - продолжал он возбужденно. Двадцать лет назад даже мы считали, что ядерная энергия и исследования межпланетного пространства встанут на повестку дня только через несколько столетий, когда человечество каким-то образом окажется достаточно мудрым и зрелым, чтобы разрешить такого рода проблемы. И вдруг в мгновение ока эта эра уже наступила. И оказалось, что ответственность ложится на наше поколение. Именно нам приходится сидеть за столом совещаний и творить историю!
На одну безумную секунду Ник почувствовал неодолимое желание согласиться. Такая перемена решила бы все, положив всему конец. И тут же это чувство ужаснуло его: слишком сильным оно было.
- Я сыт по горло такого рода историей, - сказал он медленно, - и больше не хочу иметь к ней никакого отношения. Моя область - физика, я только физика. Сейчас я как раз жду звонка из Кембриджа - насчет русской делегации.
- А какая здесь связь? - пожал плечами Хэншел.
- Вы упомянули об истории. Меня сейчас заботит моя личная история.
- Вы-то на что жалуетесь? Уж про вас никто не может сказать, что вы творчески бесплодны!
- Но что я, собственно, делаю? - с досадой перебил Ник. - Последнее время я словно граммофонная игла, которая снова и снова бежит по одной и той же бороздке. - Он внезапно умолк, не решаясь даже самому себе признаться в большем из страха, что от такого признания предатель внутри него станет сильнее. - Вероятно, всему причиной проклятое расхождение с Гончаровым. Если бы только нам удалось выяснить, в чем дело, я снова смог бы непрерывно двигаться вперед, предоставив тем, кто помоложе, уточнять детали.
Он заметил, что Хэншел смотрит на него каким-то странно-отвлеченным оценивающим взглядом, а затем в этом взгляде неожиданно вспыхнул интерес, понимание, облегчение. На губах заиграла легкая улыбка. Напряжение исчезло с его лица, и он оперся подбородком на кончики пальцев. Глаза его удовлетворенно полузакрылись. Весь его вид свидетельствовал об иронической радости и уверенности в себе.
- Я убежден, что все дело в этом, - неожиданно для себя начал настаивать Ник, словно сейчас важнее всего было убедить Хэншела. - Только в этом.
- Разумеется, - сказал Хэншел мягко, но его улыбка осталась прежней. Тем не менее, если дело не в этом, возможно, помогут два года работы со мной.
- Нет, - сказал Ник резко. - Вы же сами признали, что тот, кто расстается с лабораторией, назад не возвращается.
- Ну, а если я представлю вам это как вопрос вашей личной ответственности? - все еще улыбаясь, спросил Хэншел.
- Не тратьте зря слов, - ответил Ник, вставая из-за стола. - Я уже думал об этом. Я обязан делать то, что делаю, как можно лучше, я обязан использовать свои способности наилучшим образом. Но моя личная ответственность вовсе не требует, чтобы я позволял использовать себя в качестве ширмы для решений, которые принимают всевозможные политические деятели, чьи побуждения вовсе не совпадают с моими. Нет, раз уж вы заговорили об истории, политика - это не история. Это - либо честолюбивые люди, добивающиеся власти, либо честолюбивые державы, рвущиеся к господству.
- У вас столько доводов, - сказал Хэншел с легким смешком, по-прежнему глядя на него так пристально, что Ника пробрал озноб, - столько доводов...
- Может быть.
- Гораздо больше, чем вам нужно. Не знай я вас так хорошо, я сказал бы, что вы возражаете слишком пылко.
Ник опять бросил на него быстрый взгляд, пытаясь уловить скрытый смысл этих слов. Но в умных серых глазах по-прежнему светилась только снисходительная усмешка. Однако Хэншел был слишком проницателен, обмануть его было нелегко. Он несомненно что-то почувствовал, но почему-то не пожелал докапываться до причины, и это тоже беспокоило Ника.
- Я подожду вашего решения, - закончил Хэншел, вставая.
- Вы его уже слышали, Леонард.
- О нет, это была только первая реакция, - мягко поправил Хэншел. - Не торопитесь. Повидайтесь с вашим Гончаровым. Дело терпит. Я еще некоторое время пробуду здесь. - Он задержался на пороге и снова улыбнулся. - Нам, пожалуй, стоит поговорить после отъезда Гончарова, и тогда мы посмотрим, так ли все это просто, как вам кажется.
- А вам не кажется? - спросил Ник, помолчав.
Хэншел пожал плечами.
- О, если бы! Это было бы так мило, - вздохнул он.
Ник продолжал смотреть на закрывшуюся за Хэншелом дверь, по-прежнему охваченный гневом, которого не мог бы выразить словами. Даже причина этого гнева была ему неясна. Он только чувствовал, что совсем опустошен и не может сейчас оставаться один. Свернув расчеты мезонного телескопа и сунув их в карман, он вышел из кабинета.
- Мэрион, когда позвонят из Кембриджа, соедините их с южной лабораторией - я буду там. А насчет того... - продолжал он уже не таким безразличным голосом. - Простите, что я вас напугал. Я просто не подумал, какое впечатление все это может произвести.
- Извиняться следует мне, - возразила она. - С тех пор как я вышла из кабинета, я все время злюсь на себя. Что вы могли подумать!
- Какие пустяки.
- Нет, - сказала она сердито. - У меня такое ощущение, что я веду себя с вами безнадежно глупо. То и дело выкидываю что-нибудь подобное, а когда пойму, что натворила, уже поздно. Но мои прежние ошибки почему-то не мешают мне делать все новые и новые.
- Перестаньте, - сказал он твердо. - Вы самая лучшая секретарша в мире, и кто из нас неправ, не имеет ни малейшего значения. Давайте просто забудем об этом.
Он стремительно вышел в коридор своим обычным широким шагом, потому что, когда он работал - а он любил работать, - все его тело обретало целеустремленность и сохраняло ее, несмотря ни на что. Он прошел мимо наполненной жужжанием механической мастерской. Ему было достаточно одного взгляда в открытую дверь, чтобы осмотреть полдесятка приборов, изготовлявшихся для различных исследований, и получить точное представление о том, насколько продвинулась работа над каждым из них.
Когда шестнадцать лет назад он начал свою карьеру физика, он знал только узенький островок внутри этой науки. Все остальное было подернуто сверкающей дымкой приблизительности. В те годы он жаждал, чтобы настал день, когда придет полная ясность. Впрочем, он даже и не мечтал о той широте знаний и о той уверенности, какими обладал сейчас, но зато ему и в голову не приходило, что они дадут ему так мало радости, словно он стал всего только экспертом в определенной области и каждый новый день мог принести ему лишь повторение того, что он уже сделал. А ведь он ждал большего, гораздо большего, и уж во всяком случае, не должен был исчезнуть жгучий интерес к неведомому, захватывающее волнение открытий и поток новых прозрений.
Здесь, в южной лаборатории, этим был пропитан самый воздух, этим дышали молодые ассистенты Ника. Они поглядели на него, когда он вошел, - он звал, что они даже не подозревают о той войне за самого себя, которую он вел втайне от всех. Но он боролся и за них тоже, потому что чувствовал себя экраном, который защищает их он заражающего отчаяния, способного убить. Это покровительственное чувство и жалость, а кроме того, любовь к работе, которую он делил с ними, заставляли его всемерно остерегаться, чтобы не заразить их своим новым равнодушием прежде, чем он с боем вернет себе былое ощущение торжества и гордости - всю ту радость, на которую имеет право участник величайших достижений человеческого разума. Поэтому он был необыкновенно чуток к их внутреннему миру, и то, что для другого было бы только еще одним уязвимым местом, еще одной возможностью выместить на ком-нибудь горечь своего разочарования, делало Ника лишь добрее.
Они оставили работу и собрались вокруг него, чтобы выслушать, что он скажет о мезонном телескопе. Идея к общая схема принадлежали ему, но он поручил им разработать отдельные детали.
- Прежде чем мы займемся мезонным телескопом, вам нужно покончить с некоторыми другими делами. Сперва об эксперименте Гаррисона, - сказал он, и Гаррисон, самый младший сотрудник лаборатории, побелел от волнения. Ему было двадцать пять лет, он совсем недавно получил докторскую степень, и все же у него хватало смелости предположить план своего собственного эксперимента в области, которой до сих пор никто еще в институте не занимался. - Я разрешаю эксперимент, - сказал Ник. - Лондон отведет вам отдельную лабораторию а откроет личный счет на оборудование. - Он повернулся к своему заместителю, который явно был всем этим недоволен. Найдется у нас комната?
- Подыщем, - ответил Лондон.
По его тону нетрудно было догадаться, какой разговор он начнет, когда они останутся наедине: "Что вы делаете, Ник? Эксперимент Гаррисона даже в самом лучшем случае даст очень мало нового. Кое-что в этом есть, но стоит ли все дело хлопот?" И ему придется объяснять Лондону то, чего Лондон, вероятнее всего, никогда не поймет: что цель этого эксперимента - не те данные, которые, может быть, сумеет получить Гаррисон, а возможность дать Гаррисону испытать упоение самостоятельной работой, чтобы он был захвачен и загорелся новыми идеями, а что, если и Гаррисону и науке повезет, какая-нибудь из этих идей может оказаться действительно ценной. Бледность Гаррисона сменилась румянцем счастья, в глазах появился новый блеск, на губах заиграла улыбка. И Ник, словно сквозь какую-то завесу, почувствовал его состояние - так порой узнаешь забытый любимый мотив, когда невидимый прохожий под твоим окном насвистит его начало.
Зазвонил телефон. Лондон взял трубку, а потом передал ее Нику.
- Вас вызывает Кембридж.
- Это, наверно, насчет русских, - сказал Ник, и во всех глазах появилось любопытство. Никому из них, кроме Ника, в этом событии не слышался волшебный обертон судьбы. Для них приезд советской делегации просто означал интересную встречу с мифическими созданиями, которые, хотя и были похожи на людей и двигались, как люди, обладали, судя по всему, какой-то своей внутренней сущностью, делавшей их обособленной расой, непостижимой, таинственной, далекой.
- Может быть, им ведено возвращаться домой, - сказал Лондон. - Довольно с них Америки.
Ник взял трубку и сердито поглядел на Лондона. Его "Алло!" прозвучало резко, почти требовательно - он наотрез отказывался допустить мысль о том, что его встреча с Гончаровым не состоится.
Телефонистка в Бостоне сказала: "Говорите!", - и раздался хриплый голос Морриса, ничуть не изменившийся после мгновенного перелета через треть американского континента. Этот голос, как всегда, был окрашен бруклинской интонацией, которая не исчезала, даже когда Моррис объяснял сложности релятивистской квантовой механики перед международной ученой аудиторией.
- Ник? Говорит Джек Моррис. Как дела, малыш?
- Ничего нового, кроме работы, - сказал Ник, небрежным тоном маскируя снедавшее его нетерпение. - Ну, как твои гости?
- Я потому и звоню. Наша конференция кончилась раньше, чем мы предполагали. Русские осмотрели все приборы, какие только у нас имеются. Им каждый день устраивали приемы или вечера с коктейлями, и мы возили их по Бостону, как всегда возим гостей, накормили их у Лохобера в Дэрган-парке и помогали делать покупки в подвале у Файлина, а теперь они изъявили желание отбыть на... погоди минутку... - послышался шелест бумаги, - "ТВА-142", который доставит их к вам сегодня вечером, в шесть тридцать.
- Они хотят уехать из Кембриджа сегодня? - Нахмурившись, Ник взял со стола отпечатанный на машинке лист бумаги с типографским штампом "Государственный департамент" и заголовком: "Делегация советских физиков. Программа поездки". - Но это на два дня раньше, чем мы планировали.
- Я знаю, - обеспокоенно сказал Моррис, - но они спросили, возможно ли это, а я не мог ответить им прямо ни да, ни нет. Ну, знаешь, что я делаю в таких случаях: снимаю очки, начинаю их протирать, словно, когда я ничего не вижу, я и слышу хуже. Дело в том, что у них только три недели на знакомство со всей страной...
- Посылай их сюда, - сказал Ник спокойно. - И, конечно, сделай вид, будто задержка вышла только из-за того, что ты старался достать пять билетов на один самолет.
- Само собой, - с явным облегчением ответил Моррис. - Позвонить в Вашингтон?
- Нет, - ответил Ник. - Я беру ответственность на себя. Просто посади их в самолет и проследи, чтобы все сошло гладко. Главное, чтоб у них не возникло ощущения, будто служба безопасности следует за ними по пятам. А мы здесь изменим расписание и постараемся организовать для них что-нибудь на сегодняшний вечер. Кстати, - прибавил он, не в силах удержаться, какие они?
- Самые обыкновенные, - ответил Моррис так, словно его самого до сих пор изумляло это открытие. - Ни за что не догадаешься, что они русские, если не считать... Я хотел было сказать "прически", но потом вспомнил, как иногда выглядит кое-кто из наших коллег... ну и, конечно, они время от времени вставляют свои русские "хорошо" и "пожалуйста". Они имели у нас бешеный успех. Все пятеро говорят по-английски вполне прилично, только слишком правильно, как все иностранцы. И вообще люди как люди: ни широких штанин, ни стиснутых кулаков, ни размахивания красным флагом. Они любят смеяться и шутить. Двое из них, Меньшиков с ускорителя и Любимов из группы физики твердого тела, оказались большими специалистами по целованию ручек и совсем покорили кое-кого из наших кембриджских дам. Логинов - теоретик любит джаз, охоту на уток и Пушкина. А твой личный приятель, тот, который приехал специально, чтобы повидаться с тобой, - Гончаров...
- Три минуты... - пробубнила бостонская телефонистка.
- Хорошо, хорошо, - отозвался Моррис. - Так, значит, мне официально разрешено сказать им, что они могут ехать?
- Расскажи мне о Гончарове, - потребовал Ник. - Какой он?
Моррис засмеялся.
- Он все время спрашивает то же самое о тебе. - Сам увидишь вечером, а мне от тебя требуется только официальное разрешение отправить их к вам.
Произведения
Критика