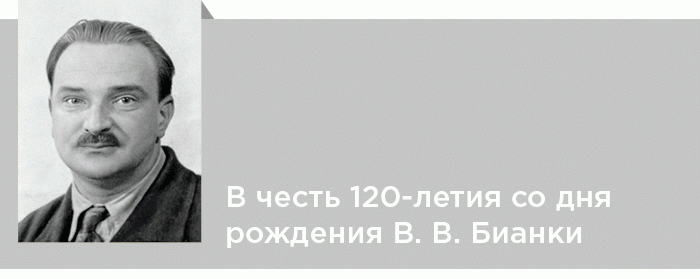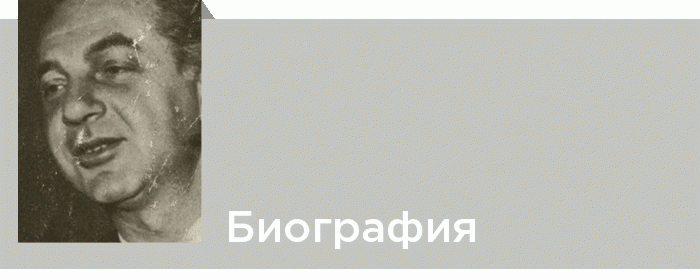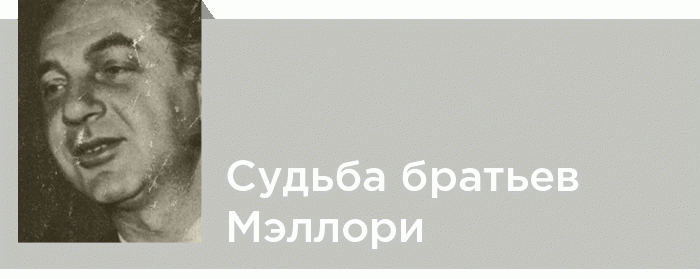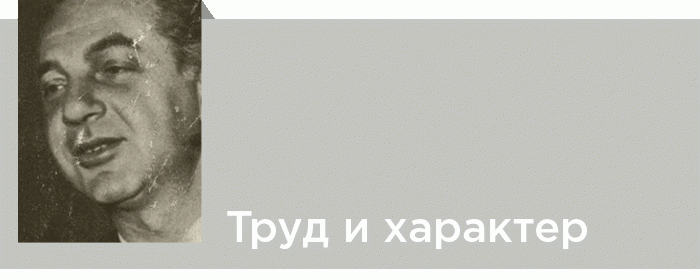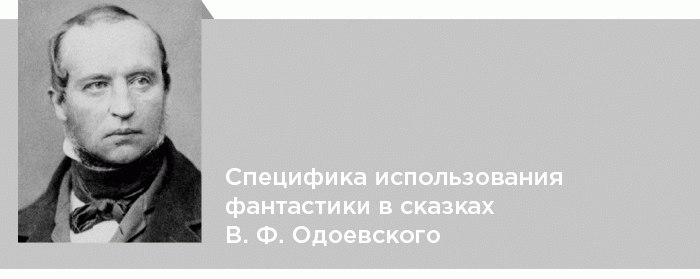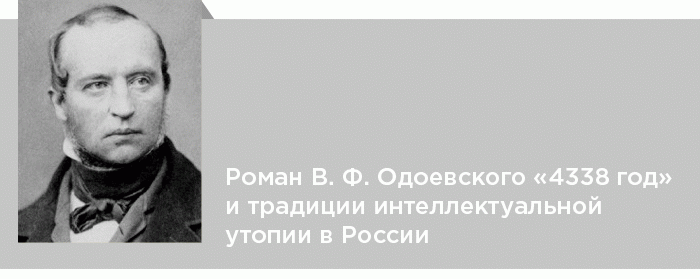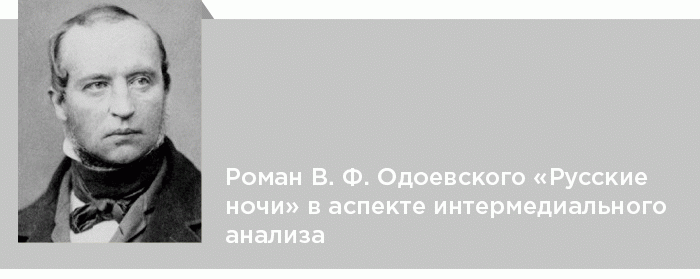Митчел Уилсон. Живи с молнией
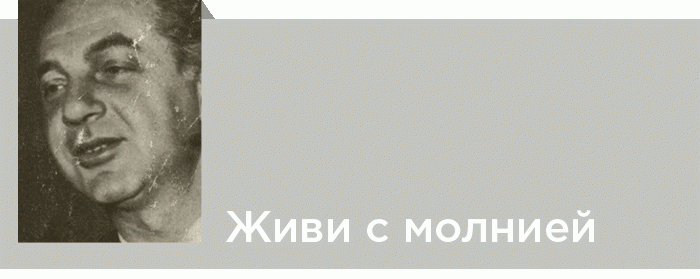
(Отрывок)
КНИГА ПЕРВАЯ. ЛАБОРАТОРИЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Профессор Эрл Фокс не обращал никакого внимания на жужжавший телефонный аппарат, хотя секретарша звонила ему из приемной уже второй раз. Погруженный в унылое созерцание своей душевной пустоты, он в тысячный раз пытался доискаться, что же, собственно, произошло в его жизни. Еще с минуту он молча глядел на телефонную трубку, стараясь оттянуть назойливое вторжение внешней жизни.
Кабинет его находился на двенадцатом этаже в юго-западном углу здания физического факультета. Профессор Фокс являлся деканом факультета, поэтому стены его кабинета были отделаны деревянными панелями. А так как факультет был физический, то на панелях висели портреты Ньютона, Лейбница, Фарадея и других ученых. Из одного окна был виден колледж Барнарда, а за ним – высокие скалы на берегу реки Гудзон. Из другого открывался вид на широкие кварталы университетского городка, на лужайки, а дальше сплошь расстилалось знойное августовское марево. Порою Фокс поворачивал свое глубокое вертящееся кресло и устремлял невидящий взгляд то в одно, то в другое окно, но сейчас он сидел неподвижно, уставясь на голую поверхность письменного стола. Нехотя, почти машинальным движением, он поднес к уху телефонную трубку и услышал голос секретарши:
– Профессор Фокс, вас спрашивает мистер Эрик Горин.
Он сдвинул брови. Что это еще за Эрик Горин? Профессор Фокс имел привычку выражать свое недоумение молчанием, и секретарша продолжала, не дожидаясь ответа:
– Я сделала, как вы велели: я попросила других посетителей зайти попозже, потому что вы хотели поговорить с новым аспирантом, как только он придет.
– Ах, да, – сказал Фокс. – Просите его ко мне, пожалуйста.
Эрлу Фоксу было всего пятьдесят четыре года, но он чувствовал себя древним как мир. После двадцати семи лет исследовательской работы он совсем разлюбил науку. Он шел к этому медленно, исподволь, и только под конец его вдруг словно озарило. Однажды он слушал какой-то доклад и внезапно поймал себя на мысли: «Кому это нужно?» И тут он впервые осознал, что у него пропал всякий интерес к науке, и был поражен этим открытием, как человек, который, взглянув однажды утром на свою жену, неожиданно приходит к заключению: «Да ведь я же давно ее не люблю!»
В самом начале своей карьеры Фокс был умеренным социалистом, потому что в первом десятилетии двадцатого века это было модно; потом миссис Фокс всячески старалась исправить этот его промах, заводя знакомства с полезными людьми, пока он корпел в лаборатории над своими исследованиями. Повышения регулярно следовали одно за другим, и только получив звание профессора, он понял, что обязан своей карьерой жене, а вовсе не упорной исследовательской работе, в которой не было ровно ничего сенсационного, хотя она и намного опережала свое время. Нобелевская премия была присуждена ему в 1924 году, когда появление волновой механики доказало важность его работы, то есть через десять лет после того, как он закончил свой знаменитый опыт. Но опять-таки слава – к тому времени он уже был деканом физического факультета – увенчала труды его жены, а не его собственные.
Теперь, в 1931 году, он со смутной грустью слушал, как люди младшего поколения с жаром спорили о всяких теориях и обсуждали трудности, с которыми им пришлось столкнуться в процессе постановки опытов. Работа явно увлекала их, и это будило в нем неясную зависть – он как бы жалел об утраченном, но вовсе не стремился вернуть его. В последнее время сознание внутренней опустошенности стало просто невыносимым, и Фокс мечтал о какой-нибудь встряске, которая могла бы возвратить его к жизни, – будь то землетрясение или внезапное увлечение какой-либо идеей, женщиной, даже молоденькой девушкой, – что угодно, пусть даже самое нелепое. Он был готов на все, лишь бы выйти из этого безразличия, но каждый вечер он все так же брал свой портфель и отправлялся обедать домой, на угол 117-й улицы и Риверсайд-Драйв, квартира номер 12-д.
Дверь кабинета отворилась, вошла секретарша, а за нею юноша лет двадцати, чуть повыше среднего роста, стройный и одетый более чем скромно. У него были живые черные глаза и гладкие темные волосы, росшие на лбу мыском.
– Мистер Горин, – представила его секретарша.
Фокс встал, пожал молодому человеку руку и пригласил его сесть. Собственный тон показался ему слишком холодным – пожалуй, надо быть чуть приветливее, подумал Фокс. Он опустился в кресло, стараясь припомнить, кто именно рекомендовал Горина, ибо эта тема всегда служила началом для подобных бесед.
– Как поживает доктор Холлингворс? – вдруг вспомнив, спросил Фокс.
– Хорошо, сэр, – неторопливо и сдержанно произнес Горин и выпрямился, словно готовясь отразить любое нападение.
Но прежде чем ответить, он вынужден был прочистить горло, и Фоксу стало жаль его, хотя он был уверен, что эти живые глаза немало удивились бы, увидев на лице декана выражение сочувствия.
«Не робей передо мной, – хотелось сказать Фоксу, – видит Бог, как я желал бы оказаться на твоем месте». Он смотрел на энергичное настороженное лицо с взволнованным и умным взглядом. Бог мой, думал Фокс, ему страшно, он, может быть, голоден, и все-таки он хочет перевернуть весь мир!
– Мы очень рады, что вы будете работать с нами, мистер Горин, – мягко сказал он. – В этом году мы приняли в аспирантуру только одного человека. У вас великолепные рекомендации, и вам будут предоставлены все условия, чтобы оправдать их. Как вам известно, вы будете вести на первом курсе лабораторные занятия по физике и одновременно готовиться к экзамену на докторскую степень. Возможно, первый год вам будет трудновато совмещать ученье с преподаванием, но постепенно все наладится. Вас интересует какой-либо определенный раздел физики?
– Нет, – ответил Эрик после некоторого колебания. – Я еще не знаю как следует ни одного из них. С механикой, оптикой, термодинамикой и электричеством я знаком лишь в пределах обычного университетского курса.
Фокс кивнул. Разумеется, этот юноша только что пережил мучительные колебания между страхом, что он произведет плохое впечатление, и желанием сказать правду. В течение двенадцати лет Фоксу приходилось не менее двух раз в год вести такие разговоры, и каждый раз ответ бы стереотипен, как и замешательство сидящего перед ним юноши, как и вся жизнь, в которой для Фокса давно уже не существовало ничего, кроме стандартов и стереотипов.
– Вы еще успеете решить, – сказал он. – Здесь ведется самая разнообразная исследовательская работа, так что выбор у вас будет большой. К сожалению, сейчас большинство наших сотрудников в отпуску, и работа начнется недели через две, не раньше. В лабораторных занятиях вы будете отчитываться перед профессором Бинсом. Он читает физику на первом курсе. Руководителем ваших аспирантских занятий будет профессор Камерон. Пока что оставьте свой адрес у моего секретаря, мисс Прескотт. Каждый год перед началом семестра мы с миссис Фокс устраиваем у себя вечер для преподавательского состава, чтобы новые сотрудники могли познакомиться с остальными. Разумеется, мы ждем к себе и вас, но миссис Фокс непременно захочет послать вам особое приглашение.
На этом обычно заканчивались такого рода беседы; Фокс чувствовал, что к концу ему удалось придать своему голосу больше теплоты. Он был вполне удовлетворен этим маленьким спектаклем, и уже готовился опустить занавес, прежде чем снова замкнуться в себе. Кажется, ничего не забыто, думал он. Приглашение, имена Бинса и Камерона, ободряющий тон – как будто все. Ах да, еще один маленький штрих…
– Приятно ли вы провели лето, мистер Горин?
– Лето? – Помолчав, Эрик дважды глубоко вздохнул. Его темные глаза не отрывались от лица Фокса. – Нет, сэр, – выпалил он. – Лето я провел чертовски неприятно.
Обманчивость первых впечатлений зависит не от того, каковы они, а от того, в какой момент они сложились. Редко бывает, чтобы верное впечатление составилось сразу же, в первую минуту встречи. Минута проходит за минутой, тянется долгая беседа, и вдруг неожиданное слово, жест или интонация совсем иначе освещают человека, который до тех пор был просто нулем в пиджаке и брюках.
До сих пор Фокс, собственно, не видел Горина. Ничто, кроме настороженной пытливости во взгляде юноши, не привлекало его внимания. Но сейчас Фокс вдруг почувствовал, что в комнате, помимо него, есть еще один человек. Голос ли был тому причиной или слова, а может, и то и другое – он и сам не знал. Когда он впоследствии вспоминал свою первую встречу в Эриком, ему казалось, что разговор начался именно с этих слов, с того момента, когда был нарушен обычный стандарт.
– Как вы сказали? – несколько растерявшись, переспросил Фокс.
– Я говорю, что лето у меня было просто ужасное, – повторил Эрик. – Разрешите курить?
Фокс подвинул ему через стол пепельницу.
– Спасибо. Одно могу сказать: хорошо, что мытарства мои кончились, – добавил Эрик. Он вовсе не собирался рассказывать ни об этом, ни вообще о своих делах, но в Фоксе было что-то настолько располагающее, что Эрик просто не мог удержаться и не рассказать ему, как он прожил эти два месяца. Спазм в горле у него постепенно исчез, и слова быстро полились одно за другим.
– Я старался внушить себе, что все обойдется, – продолжал Эрик. – Рано или поздно я бы все равно оказался здесь, и сейчас, когда самое трудное уже позади, мне кажется, будто ничего и не было.
Фокс поглядел на бледное лицо юноши, отметив про себя слова «самое трудное позади».
Эрик замолчал, пытаясь сдержать поток рвавшихся наружу слов, но они неудержимо хлынули снова.
– Понимаете, после выпуска, когда Холлингворс… профессор Холлингворс сказал мне, что я назначен сюда, у меня не было ни гроша в кармане. Я даже не могу вам сказать, что для меня значило изучать физику в Колумбийском университете. Холлингворс был очень любезен и пригласил меня провести лето у него в Висконсине. Но не мог же я жить у него нахлебником столько времени. Я решил погостить две недели. Там было просто чудесно.
– Охотно верю, – сказал Фокс. Удивление его все возрастало. – Висконсин – очень живописная местность.
– О да! Через две недели я сказал, что еду на восток, к двоюродной сестре, и уехал. Никакой сестры у меня нет, но пришлось сесть в поезд, потому что все семейство Холлингворса явилось провожать меня на станцию, и я знал, что они огорчатся, если поймут, что ехать-то мне некуда. В поезде я купил билет до следующего городка – он называется Кэтлет. Там я сошел и, пройдя немного по шоссе, пристроился на попутную машину.
– На попутную машину? – Фокс подумал о днях, проведенных им в кабинете, в точности похожих один на другой, и внезапно представил себе машину, бегущую на восток по раскаленному шоссе, и сидящих в ней двух молодых людей. Ему показалось, будто он глотнул свежего воздуха. Но юноша не сводил с него настороженного взгляда.
– Я «проголосовал», – счел необходимым объяснить Эрик. – Парень вел машину в Кливленд, чтобы там ее продать. Он любил эту машину, понимаете, он так долго копил деньги, чтобы купить ее. Он был совсем расстроен и всю дорогу рассказывал мне, как он заменял одну деталь и как чинил другую. Но что поделаешь – он остался без работы, сбережения кончились, какая уж тут машина. Мне почему-то стало жутко. Из Кливленда я уехал тоже на попутной машине, и, когда мы остановились заправиться в местечке, которое называлось ни больше ни меньше как Большие Надежды, я разговорился с хозяином бензоколонки. Он предложил мне работать у него за харчи и ночлег. Я должен был помогать ему ремонтировать и обслуживать машины, а плату за починку автомобильных радиоприемников я мог оставлять себе. За три недели я починил только один приемник. Впрочем, вскоре я ушел оттуда, и вот почему. Как-то раз на улице меня остановил один парень. Он совсем обезумел от горя – оказалось, что я перехватил его место. Хозяин платил ему около тридцати долларов в неделю, а я работал почти даром. У него жена и дети. После этого я решил уйти. Не знаю, взял хозяин его обратно или нет, только я уже не хотел там больше оставаться. Видите ли, я все время знал, что здесь меня ждет вакансия. Для меня это было как защитная броня.
Эрик вдруг понял, что чересчур заболтался, и, спохватившись, поспешно затушил папиросу. Он откашлялся и встал в надежде, что удастся благополучно выйти из положения, закончив на этом беседу.
– Нет, сядьте, – сказал Фокс. – Сядьте и расскажите, что было дальше.
Эрик снова сел. «Неужели это я, – думал он, – разговариваю с Эрлом Фоксом, ученым, получившим Нобелевскую премию? Сижу с ним наедине и, как идиот, болтаю о том, что со мной было летом, а он меня слушает. Меня!» Он подумал о людях, которые пожимали Фоксу руку, – президент Соединенных Штатов, датский король, все современные ученые с крупными именами: вероятно, и Планк, и Резерфорд, и Эйнштейн…
– Продолжайте, – сказал Фокс. – Что же было дальше?
– Да ничего особенного. В Скенектади я некоторое время работал судомойкой, а когда приехал в Нью-Йорк, сейчас же примчался сюда, но вы были в отпуске. Две недели, до вчерашнего дня, я работал в душевом павильоне при бассейне на Ист-Сайд. Я там все время хохотал, до того было смешно.
– Смешно?
– Что бы со мной ни случилось, какую бы дурацкую работу я ни делал, я все время твердил себе: ведь на самом деле я физик. – Он осекся. – Я могу считать себя физиком, правда? Или это слишком самонадеянно?
– Нисколько, – не сразу ответил Фокс. Голос его звучал мягко. – Вы действительно физик.
– Дело вот в чем, – сказал Эрик. Он встал; глаза его теперь казались совсем черными. – Мне хочется, чтобы вы поняли, что значит для меня возможность быть здесь. Вы сказали, что мне будут предоставлены все условия. Мне не нужно всех условий. Я прошу только одного – оставить меня здесь, вот и все.
– Да, – сказал Фокс. – Да, я понимаю.
Он повернулся вместе с креслом и, глядя через окно на отвесные скалы, задумался о том, сколько воли и энергии заключено в этом молодом человеке. И Горину понадобится каждая капля этого запаса, чтобы начать восхождение на высокий крутой холм, именуемый карьерой ученого. Сам Фокс давно уже достиг вершины своей научно-исследовательской карьеры и с высоты, на которой он стоял, мог обозревать холмы других профессий. Теперь он знал, что в свое время мог бы взобраться на любой из них, но он выбрал карьеру ученого – самый уединенный холм. Если бы он избрал что-нибудь другое, если бы он достиг высоты более легким путем, наверное, и вознаграждение за труды было бы гораздо большим, хотя бы потому, что меньше, чем сейчас, оно уже быть не может. Заработок его был сравнительно невелик – двенадцать тысяч в год, о славе его знала во всем мире только маленькая горстка людей, а сам он превратился в черствого, ко всему равнодушного старика с опустошенной душой. Но вначале и у него не было никаких колебаний. Для него не существовало никакой карьеры, кроме научной, и никакой науки, кроме физики. Но почему? – недоумевал он сейчас. Что же заставило его выбрать именно этот путь?
Быстро и резко, словно рассердившись, он снова повернулся в кресле.
– Скажите… почему вы хотите стать ученым? – спросил он.
Горин молча уставился на него.
Фокс улыбнулся.
– Это не такой уж глупый вопрос.
– О, я этого не думал! Я просто…
– Я знаю, что вы этого не думали, но тем не менее мне хотелось бы знать, что заставляет молодого человека выбрать именно исследовательскую работу в области физики. Прежде всего вам придется отчаянно трудиться, чтобы овладеть наукой и вырвать у природы еще какую-то часть ее тайн. Затем перед вами встанут проблемы личной жизни – для науки не хватает двадцати четырех часов в сутки, но так жить невозможно. Ведь вы же человек. Но допустим, что вы овладели наукой, и представим себе, что вы все-таки разрешили проблему личной жизни, – и что же? Каково ваше положение в обществе в широком смысле этого слова? Вы натыкаетесь на стену такого равнодушия и невежества, что можете совершенно пасть духом. Общество нас не преследует, нет, гораздо хуже – оно почти не знает о нашем существовании, а если и знает, то для него мы являемся какими-то чародеями или богами – словом, чем-то в этом роде. Нас не считают за людей. Так что славы настоящей у нас нет и денег тоже, и в том, что может дать нам жизнь, не слишком много счастья, – вот почему я не понимаю, чем может привлекать научная карьера молодого человека в расцвете сил.
Эрик глядел на него в полном недоумении. Он был уверен, что не так понял профессора.
– Не знаю, – искренне ответил он. – Мне никогда и в голову не приходило искать другую профессию. Да и чем же, в конце концов, можно еще заниматься!
Фокс пожал плечами. Жаль, подумал он, но, видимо, тут уж ничего не поделаешь.
– Оставим это. Не забудьте, пожалуйста, сообщить мисс Прескотт свой адрес. Советую вам устроиться где-нибудь поблизости, может быть, даже в общежитии для аспирантов. Аванс будет выслан вам по почте.
– О, я могу подождать, профессор Фокс.
– Уж так здесь заведено. – Он встал и протянул руку. – Очень рад, что вы заглянули ко мне.
– Я слишком много болтал, – сказал Эрик. – Я право, не собирался, сэр. Как-то само собой вышло.
Фокс только покачал головой и, положив руку молодому человеку на плечо, проводил его до двери. Он подумал, что из этой беседы можно будет сделать забавную историю и при случае посмешить друзей, но через секунду понял, что никогда и никому не станет о ней рассказывать. Нельзя рассказать об этой встрече, не превратив ее в шутку, а вышучивать услышанное он тоже не мог, потому что юноша говорил ему о чем-то очень сокровенном. Фокс чувствовал себя так, словно ребенок вручил ему какую-то крошечную безделушку, которая для него дороже всего на свете, и он, Фокс, должен, хранить ее как можно бережнее, чтобы оправдать оказанное ему доверие.
В приемной Эрик получил от секретарши три ключа: один от аспирантской комнаты, другой от преподавательского лифта и третий от входной двери физического факультета. За ключи ему пришлось заплатить какую-то мелочь. Но когда он вышел из здания, позванивая ключами в кармане, ему казалось, что они из чистого золота, а звон их возвещает каждому прохожему, что он – Эрик Горин – стал наконец тем, чем всегда мечтал стать, – настоящим ученым-физиком.
2
Профессор Б.Сэмпсон Уайт отнесся к Эрику Горину гораздо проще, чем Фокс. Уайт торопился поскорее окончить работу над своим прибором, чтобы уехать на побережье и пробыть там хоть две недели до начала осеннего семестра. Он работал один в большом пустынном здании, наслаждаясь ощущением покоя и полной обособленности, и сначала не обратил никакого внимания на молодого человека, который остановился на пороге, наблюдая за его работой. Уайт подумал, что это какой-нибудь случайный посетитель, который, заблудившись в пустом здании, нечаянно забрел сюда и сейчас уйдет. Он снял со стены кислородную горелку, приоткрыл немного газовый кран и зажег газ – вспыхнул венчик желтого пламени, – затем прибавил еще газа и кислорода, и гудящее пламя вырвалось длинным голубым языком.
Накануне вечером Уайт обнаружил трещину в системе стеклянных насосов и решил запаять ее, пока трещина не поползла дальше. Некоторое время он медленно и осторожно водил перед собою ослепительным пламенем паяльной лампы, затем снял защитные очки. Когда в глазах его исчезли темные пятна, он увидел, что юноша все еще стоит в дверях, спокойно опершись о притолоку. Казалось, он даже не сознавал, что ведет себя бесцеремонно. Он спокойно и сосредоточенно наблюдал за работой профессора, и, если у него и были какие-то глубокомысленные замечания, он держал их про себя.
– Вам тут не жарко? – резко спросил Уайт.
– О нет, ничего, – ответил юноша.
Уайту давно перевалило за сорок. У него было заметное брюшко, мелкие правильные черты лица и преждевременная седина в волосах. Красивое лицо и буква «Б», первая буква его имени, сыграли немалую роль в формировании его характера. Буква «Б» означала Биверли – явно девичье имя, как считают все мальчики. Чтобы отвлечь внимание от своего слишком хорошенького личика, он научился показывать фокусы, а для пущего отвода глаз усвоил грубовато-резкую манеру речи.
Он упорно, но без всякого вдохновения работал над исследованием свойств жидкостей. Он никогда не смог бы получить Нобелевскую премию и даже не мечтал об этом – честолюбие его не мучило. Грубоватый тон так и сохранился у него на всю жизнь: зная, что это просто привычка, он считал, что и другие должны сразу понимать это. Жизнь профессору представлялась довольно простой, потому что всех людей на свете, кроме жены и нескольких верных друзей, он считал дураками, и что бы ни происходило, виною всему были они, а он был ни при чем.
Ему нужно было запаять еще два стеклянных прибора, и, бросив быстрый взгляд на непрошеного посетителя, он снова взялся за кислородную горелку, забыв, что темные очки лишают его лицо всякого выражения.
Эрик очутился здесь по весьма простой причине. Ключи, полученные от секретарши, казалось, шевелились у него в кармане, как живые, и он не мог удержаться от искушения испробовать их. На другой день после разговора с Фоксом он приехал в университетский городок, договорился о комнате в общежитии для аспирантов и сейчас же отправился в пустовавшее пока здание физического факультета. Массивная входная дверь была широко распахнута навстречу августовскому утру. Вокруг не было ни души, но Эрик, пробуя свой первый ключ, принял небрежный вид, чтобы никто не догадался о переполнявшей его жгучей радости и гордости. Ключ легко повернулся в замке. Теперь все здание принадлежало ему. Он улыбнулся.
Второй ключ – от лифта для педагогического персонала. Лифтер у студенческого лифта предложил Эрику поднять его на любой этаж, но Эрик не пожелал отказаться от своих привилегий, и лифтер подробно объяснил ему, как пользоваться лифтом. Эрик открыл дверцу собственным ключом и нажал кнопку самого верхнего этажа. Первый раз в жизни он имел дело с автоматическим лифтом, и чем выше он поднимался, тем сильнее охватывал его страх. Ему казалось, что кабина вот-вот ударится о верх шахты, трос порвется и он погибнет ужасной, преждевременной смертью; Но вот лифт замедлил ход, и Эрик вышел на семнадцатом этаже, словно высадившись на необитаемом острове. Второй ключ, без сомнения, обладал волшебной силой. Теперь Эрику принадлежали все этажи этого здания.
Двери лабораторий, кабинетов и аудиторий были заперты. Эрик решил спуститься пешком на третий этаж, где находилась аспирантская комната. Но на пятом этаже, как раз против лестницы, дверь какой-то лаборатории была настежь открыта, он заглянул туда и впервые в жизни увидел аппаратуру для научных исследований.
В лаборатории стоял полумрак – окна были завешены от солнца.
Вдруг Эрик вздрогнул: в полутьме раздалось пронзительное шипение и вспыхнул сноп ровного голубого пламени. Эрик узнал хоковскую кислородную горелку, употребляемую для запайки стекла. Затем появился обнаженный до пояса человек с седой головой, в темных очках, повернулся к Эрику спиной, и гудящее пламя стало лизать одну из стеклянных спиралей, подымавшихся вверх от самого пола.
Прибор, стоявший на полу посреди комнаты, был вышиной в половину человеческого роста и походил на замысловатое нагромождение лома. На бетонных цоколях стояли латунные камеры емкостью в галлон, с круглыми стеклянными окошками. Они соединялись между собою стержнями. Тут же виднелась простая деревянная доска со множеством вделанных в нее циферблатов. Целые связки проводов ползли вверх и вниз по опорным стойкам, и из этого хаоса то тут, то там проглядывали изогнутые стеклянные трубки диаметром чуть побольше дюйма; стальные пластины были скреплены болтами с латунью и угловым железом, и все вместе имело какой-то незавершенный вид.
Уайт окончил спайку стекла и снял темные очки. Проклятый мальчишка все еще торчал в дверях с таким безмятежно-самоуверенным видом, с выражением такой готовности восхищаться и помочь своим советом, что Уайта стал вдруг разбирать смех.
– Эй, вы, – сказал он с добродушной грубоватостью. – Что вам тут нужно?
– Ничего, сэр. Я просто смотрю.
– А откуда вы взялись?
– Я новый аспирант. Моя фамилия Горин.
– Неужели? – Уайт повесил горелку на стену; в голосе его слышалась такая ирония, что Эрик сразу почувствовал себя маленьким и ничтожным, словно его тоже повесили на маленький гвоздик рядом с этой горелкой. – А я – старый профессор, Сэмпсон Уайт.
Уайт улыбнулся про себя и решил запомнить свой ответ: он показался ему удачным. Подняв плечо, он вытер об него потную щеку.
– В лаборатории когда-нибудь работали? – спросил он.
– Над исследованиями – нет, но мечтаю об этом, профессор Уайт.
– Ну-ну, пожалуйста, не усердствуйте, я вовсе не собираюсь брать вас в помощники.
По лицу Эрика медленно разлилась краска.
– Я совсем не это имел в виду.
– Не это? А что же?
– То, что я сказал. Я хотел бы заняться самостоятельной исследовательской работой.
– Вот как! Что же, у вас есть какие-нибудь идеи?
– Пока нет, но надеюсь, что будут, когда я узнаю побольше.
– Ах, вот что! Почему же вы думаете, что вы на это способны! И вообще, есть ли у вас какие-нибудь способности?
Эрик вспыхнул, но что-то в бесстрастных и усталых глазах немолодого профессора подсказало ему, что эти слова не нужно принимать всерьез.
– Я спрашиваю, есть ли у вас способности? – повторил Уайт.
– Это трудный вопрос, и каждый раз, когда кто-нибудь из профессоров меня об этом спрашивает, получаются неприятности.
– Почему?
– Видите ли, я всегда отвечаю «да», тогда профессор сердится и начинает придираться ко мне. Но я все-таки всегда отвечаю «да», потому что, сами посудите, как же иначе можно ответить на такой вопрос?
Уайт хмыкнул и протянул Эрику пачку сигарет.
– В этом году, очевидно, вы будете заниматься у меня. Предупреждаю, на одних разговорах о ваших способностях вы далеко не уедете. А теперь проваливайте, мне некогда. Еще увидимся как-нибудь. – Светлые усталые глаза улыбнулись. – И не очень хвастайтесь, если только вы на деле не лучше; чем на словах.
Эрик повернулся и медленно пошел вниз по лестнице, полувиновато, полуоблегченно улыбаясь.
Оставалось испробовать третий ключ, но аспирантская комната оказалась незапертой.
За одним из четырех стоявших там столов сидел светловолосый, сильно облысевший молодой человек и рылся в ящиках. Он поднял глаза на Эрика. В его взгляде было что-то собственническое.
– Да?
– Скажите, вы тоже аспирант? – спросил Эрик.
– Слава богу, теперь уже нет. А вы аспирант?
– Да.
– Вас, очевидно, взяли на мое место. Меня зовут Морроу. Можете занять этот стол, когда я уберу свое барахло, но если у вас есть хоть капля разума… Слушайте, у вас найдется пять центов?
Эрик поглядел на него с любопытством.
– Сейчас посмотрю.
– Да это не для меня. Для вас. Зажмите ваш пятицентовик в правой руке, осторожненько сойдите вниз, дойдите до угла Сто шестнадцатой улицы и Бродвея, сядьте в метро и больше никогда сюда не возвращайтесь. Это чертова дыра. Посмотрите на эту лысину: часть моих волос вы можете найти в библиотеке, во всех учебниках, что стоят на полках, а остальное – в грязной лаборатории на восьмом этаже. Я знаю, что в стране кризис, но все-таки, наверное, можно найти лучший способ заработать на пропитание, чем тянуть лямку аспиранта в этом болоте.
Морроу разгорячился и, сняв очки в золотой оправе, протер стекла, запотевшие от его собственного пыла. Эрик подошел к книжным полкам, которые тянулись вдоль стен. Над полками висела надпись: «Для аспирантов. Просьба возвращать книги». Эрик взял наугад какую-то книгу, решив выждать, пока Морроу поостынет и займется своим делом. Первая же открытая им страница была густо испещрена математическими уравнениями с какими-то неизвестными Эрику знаками, относящимися к величинам, о которых он не имел никакого понятия. На каждой странице этой толстой книги к тридцати строчкам формул было не больше двух строчек объяснений.
Эрик робко поставил ее на место, отметив про себя, что на полке стоит примерно двадцать таких книг, а всех полок больше десятка.
– Над какой темой вы работали? – медленно спросил он.
– Данные о спине из сверхтонкой структуры лития, – бросил Морроу через плечо, и Эрик, ровно ничего не поняв, поглядел на него с уважением. Морроу прочел все эти книги, прошел сквозь это горнило и уже имеет докторскую степень, – а лет ему не больше двадцати пяти.
– А теперь что будете делать?
– Поеду в Гарвард. Только что мне предложили там неплохое место. Здешняя потогонка имеет одно достоинство – получаешь основательные знания. Если, конечно, хватает сил выдержать до конца.
– А разве есть такие, что не выдерживают?
Морроу поглядел на Эрика бесстрастным взглядом.
– Пятьдесят процентов сбегает, – с расстановкой, точно произнося приговор, сказал он, – двадцать пять процентов стреляется, а остальные двадцать пять постепенно сходят на нет.
Морроу поднял с полу парусиновый рюкзак, набитый книгами, тетрадями, перепечатанными на машинке рукописями и разными бумагами, которые он решил разобрать как-нибудь в другой раз. Рюкзак он перекинул через плечо, поддерживая его одной рукой, две теннисные ракетки в прессах сунул под мышку, а в свободную руку взял портативную пишущую машинку. Затем радушно протянул Эрику для пожатия указательный палец.
– Пока, сынок, – сказал он. – Ничего, не робей! Когда станет невмоготу и все будет казаться в черном свете, думай о Копернике.
– Какого черта, он давно умер.
– Верно! – ликующе воскликнул Морроу. – Ну и умище у тебя – прямо стальной капкан. Далеко пойдешь. Ну пока, увидимся на ближайшем заседании Физического общества.
Морроу вышел, сгибаясь под тяжестью своей ноши, и Эрик остался один. Он поглядел на четыре пустых стола и подумал о тех людях, с которыми ему придется работать. Вдоль стен тускло поблескивали пыльные стеклянные шкафы – там стояли приборы, демонстрируемые на лекциях студентам: гальванометры, блоки, весы, шкалы, измерительные линейки и камертоны. Впервые Эрик вдруг ощутил в себе мучительную неуверенность. Он снова взглянул на внушительные полки с книгами, которые ему предстояло прочесть и понять, и поразился своей безрассудной самонадеянности. Даже при мысли о том, что нужно еще попробовать третий ключ, лицо его не прояснилось, и щелканье замка, отдавшееся громким эхом в гулком коридоре, не могло отвлечь его мыслей от книжных полок.
Он снова медленно вошел в комнату и долго глядел на книги, читая и перечитывая заглавия на корешках. Наконец он решительно вынул ту самую объемистую монографию, которая произвела на него такое гнетущее впечатление, и, взяв ее под мышку, зашагал к лифту. И хотя это был всего третий этаж, он вставил свой ключ в скважину для вызова и, ожидая, пока лифт, его собственный лифт, спустился вниз, принялся тихонько, но уверенно насвистывать сквозь зубы. Книга оказалась совсем не такой тяжелой, как он думал.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
В тот день, когда у профессора Фокса был назначен прием, которым он отмечал каждый год начало занятий, Эрик проснулся в таком волнении, словно в его жизни должен был произойти решительный поворот. Ему предстояло впервые встретиться с людьми, с которыми придется работать не один год. В общежитии бурлила шумная жизнь – в коридоре слышался топот ног, голоса, смех; с теннисных площадок непрерывно доносился глухой стук мячей. Занятия должны были начаться через два дня, и всю прошлую неделю в общежитие съезжались его обитатели.
Погода переменилась: после чудесных теплых дней наступила жара и духота. Раскаленное небо подернулось дымкой, сквозь которую пробивались неяркие, но палящие лучи солнца.
В половине двенадцатого в комнату Эрика вошел аспирант последнего курса Томми Максуэл, высокий молодой человек с лицом грустного клоуна и копной жестких рыжих волос.
– Вы Горин, не так ли?
Эрик кивнул.
– Меня зовут Максуэл. Фокс сказал мне, где вас найти, и велел взять на свое попечение. Мы можем отправиться к нему вместе, если вы не против.
Максуэл говорил медленно и тягуче, но лицо у него было живое и подвижное, и смеялся он быстрым беззвучным смехом. Эрик просиял; он был польщен этим визитом и рад, что проведет часы ожидания не один; кроме того, его томило любопытство.
– Скажите, – спросил он, – что будет вечером у Фокса? О чем там говорят, например?
Максуэл пожал плечами и усмехнулся.
– О чем угодно. Но если вы полагаете, что вас ждет что-то особенное, то ошибаетесь. До того как я поступил сюда в аспирантуру, я преподавал в Вашингтонском колледже и знаю, что такое профессорские приемы. Не ждите никаких чудес.
Эрик слегка нахмурился и порывисто отошел к окну.
Обернувшись, он пояснил Максуэлу:
– Я вовсе не думаю, что, как только я войду в комнату, все будут смотреть на меня с восхищением и спрашивать друг друга: «Кто этот замечательный молодой человек? До чего он, должно быть, талантлив, до чего умен!» Знаете, как мечтают в детстве. Но у меня такое ощущение, будто я сегодня приобщаюсь к чему-то очень большому, будто предстоит официальная премьера, а я ни разу даже не бывал на репетициях!
Он поглядел на улыбающегося Максуэла, затем вдруг спросил:
– Что, в сущности, значит быть здесь аспирантом?
Подумав с минуту, Максуэл стал перечислять: аспирант загружен преподавательской работой, но одновременно должен проходить специальный аспирантский курс, причем эти занятия требуют такого же напряженного труда, как и преподавание; потом для соискания ученой степени надо сделать какую-нибудь исследовательскую работу. Экзамены, которые предстояло Эрику сдать до получения докторской степени, Максуэл перечислил очень спокойным тоном, и от этого они показались еще внушительнее.
– Одним удается довести дело до конца, другим – нет. Это зависит от того, чего вы хотите.
– Я хочу довести дело до конца, – просто сказал Эрик. – Я хочу получить ученую степень и продолжать исследовательскую работу. Я хочу заниматься научной деятельностью.
Максуэл пристально поглядел на него:
– Вам никогда не случалось передумывать?
Эрик засмеялся.
– Бывает, конечно, но не в тех случаях, когда речь идет о деле, которое я себе избрал. По-моему, для меня сейчас самое лучшее – сразу же наметить тему и приступить к научной работе.
– Видите ли, вам это будет трудновато, – медленно произнес Максуэл, усмехнувшись неопытности Эрика. – Вас возьмет к себе в лабораторию какой-нибудь профессор, над его темой вы и будете работать. Всех кандидатов на докторскую степень прикрепляют к лабораториям. Из них профессора берут помощников для своей научной работы.
– Как же я узнаю, кого из профессоров мне выбрать?
– Положим, выбирать-то будут они. Но здесь почти во всех лабораториях интересно, – продолжал он. – Тут ведется исследовательская работа по всем отделам физики, кроме ядерной, да и то доктор Хэвиленд собирается организовать ядерную лабораторию, как только вернется из Англии. Сейчас он работает в Кэвендишской лаборатории в Кембридже, – там лучше всего поставлена работа над атомным ядром.
– Хэвиленд? Не слыхал этого имени. Кто он такой?
– Увидите его сегодня у Фокса. Раньше он работал здесь, у нас, но когда пошел в гору, решил уехать за границу, посмотреть, над чем там работают, и, вернувшись в Колумбийский университет, заняться настоящим делом. Он приехал в Америку всего несколько недель назад и скоро опять уедет в Англию на год. Он может стать крупным ученым, если захочет, но вся беда в том, что у него слишком много денег. Конечно, деньги – неплохая штука, только они часто мешают работать как следует. Хэвиленд – парень с головой. А ведь страшно много зависит от человека, с которым работаешь.
– Ядерная физика, – задумчиво сказал Эрик. – Может быть, это именно то, что мне нужно. – Он немного помолчал, потом в упор посмотрел на Максуэла. – Скажите, когда вы сюда пришли, спрашивал вас Фокс, почему вы хотите стать ученым? Он всем задает этот вопрос?
Максуэл явно удивился.
– Нет. Вот уж никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь интересовался, почему мы решили стать учеными. По-моему, ответ ясен сам по себе или, наоборот, связан с такими вещами, о которых не совсем удобно говорить. А что, разве Фокс вас об этом спрашивал?
– Да, – не сразу сказал Эрик. – Хотел бы я знать почему.
– И не пытайтесь раскусить Фокса. Когда он вам что-нибудь говорит, вы большей частью даже не понимаете, о чем идет речь. А через несколько лет вы вдруг обнаруживаете, что поступаете именно так, как он вам предсказал. Я был уверен, что поеду в Гарвард, Принстон или к Корнеллю – куда-нибудь, где есть крупные лаборатории. Но два года назад Фокс сказал, что я вернусь в Вашингтонский колледж, и так оно и вышло. И я страшно этому рад, – спокойно добавил он.
– Почему?
Максуэл замялся. Ответ его прозвучал резко:
– Потому что я собираюсь жениться, и мне нужно будет кормить семью, вот почему. Я уже вам сказал, что когда-нибудь и вы, возможно, будете думать иначе. Я, например, твердо знаю, что сейчас мне больше всего на свете хочется жениться. Вам, наверное, лет двадцать – двадцать один? Мне двадцать шесть, а какие-нибудь пять лет иногда могут иметь огромное значение, для меня они решили все. Конечно, если б я в свое время не надумал играть наверняка и не взялся за такую пустяковую проблему, которую легко разрешил бы любой, тогда, может, все сложилось бы иначе.
– Вы уверены, что Хэвиленд будет сегодня у Фокса? – помолчав, спросил Эрик.
Максуэл с недоумением взглянул на Эрика, не понимая, какая связь между этим вопросом и тем, что он сказал. Потом, видимо, поняв, в чем дело, он медленно, немного грустно улыбнулся и кивнул головой.
– Что ж, попытайте счастья, – сказал он. – Желаю вам удачи. Конечно, он может дать вам тему посерьезнее, чем та, что была у меня. – Он отвернулся. – У нас еще уйма времени. Хотите, сыграем в теннис или поплаваем в бассейне? А может, просто побродим?
На душе у Эрика стало нехорошо. Он чувствовал, что больно задел Максуэла, и был готов на все, лишь бы загладить свою бестактность.
– Для ясности, – заявил Максуэл, – скажу вам прямо – я лично хотел бы перекинуться мячом.
– Прекрасно, – ответил Эрик, обуреваемый великодушием, – а потом поплаваем.
– Ладно, – дружелюбно согласился Максуэл.
Эрик проводил его взглядом до двери и сказал вслед:
– А если останется время, мы еще и побродим.
Произведения
Критика