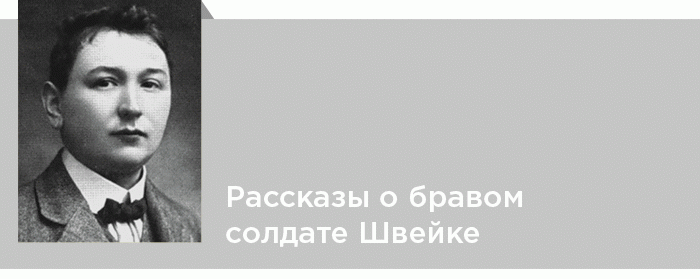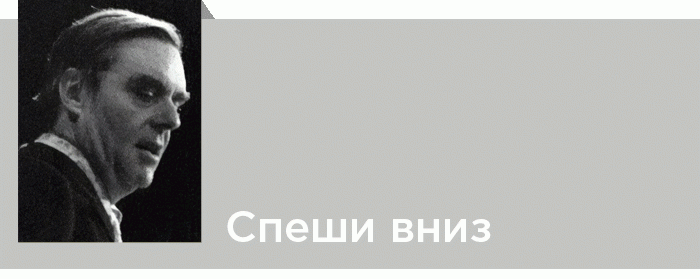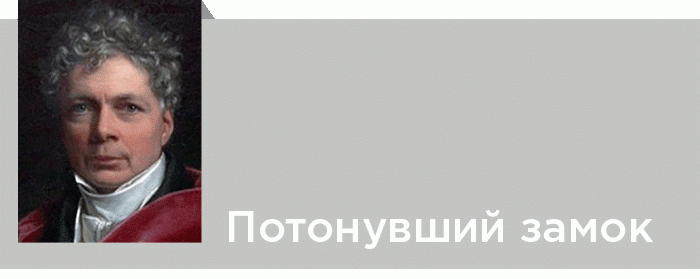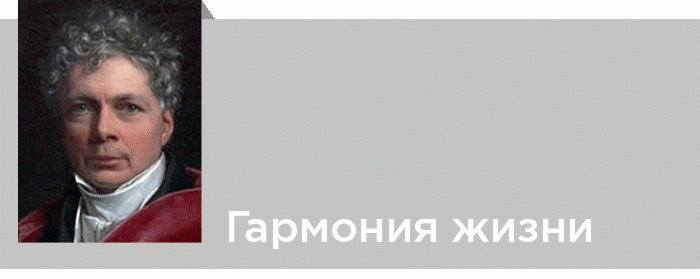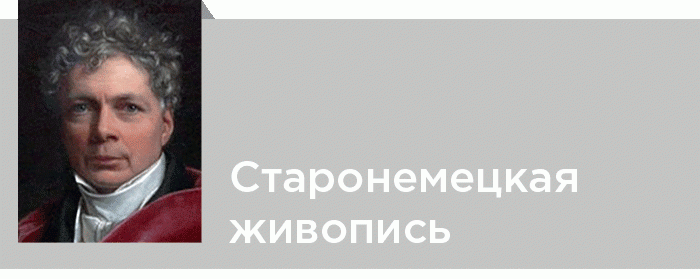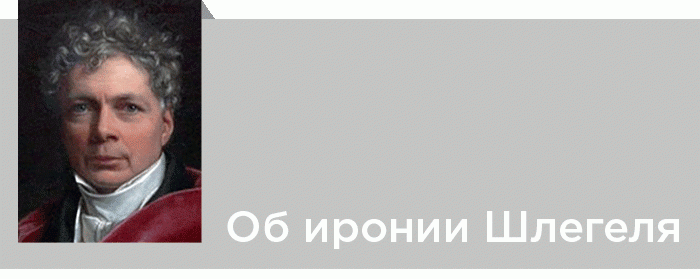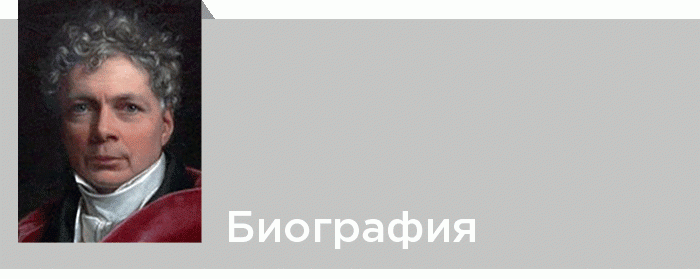Художественный мир «Люцинды» Фридриха Шлегеля
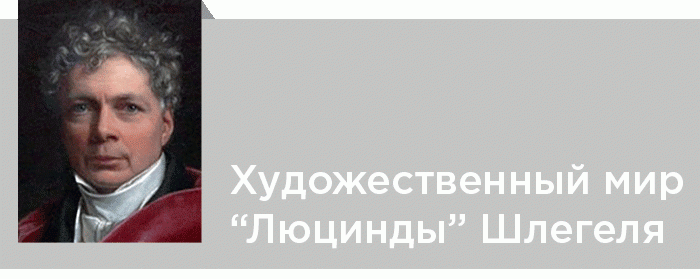
К. Г. Ханмурзаев
Фридрих Шлегель, будучи теоретиком искусства, к художественному творчеству обращался не часто.
С момента появления романа и, в сущности, по сей день, «Люцинде» делаются в критике два фундаментальных упрека — в безнравственности и художественной бесформенности. Оба они впервые прозвучали в отзыве Шиллера. 19 июля
Пожалуй, единственным исключением был Шлейермахер, который в своих «Доверительных письмах о Люцинде» выступил с апологией этого романа. И в дальнейшем, если не считать младогерманца К. Гуцкова, назвавшего «Люцинду» «мастерской книгой», на протяжении всего XIX в. и даже еще в XX в. этот роман рассматривали не столько как литературное явление, сколько как человеческий документ, отражающий скандальную историю из жизни автора. Если учесть, что в культурно-исторической школе царил стойкий перевес биографического над эстетическим, то литературоведческая судьба «Люцинды» станет вполне понятной. Р. Гайм отмечал в ней «безобразие формы и эстетическую уродливость». Но и В. Дильтей, представитель совсем иного направления мысли в литературоведении, назвал «Люцинду» «маленьким чудовищем», хотя и признавал в ней наличие «поэтических черт». Г. А. Корф предложил «новое толкование «Люцинды» как широко задуманного, хотя и сомнительного по исполнению, романа о браке». Стабильность негативной оценки «Люцинды» в критике на протяжении столь длительного времени объясняется не в последнюю очередь необычностью ее художественной концепции, находящейся в резком противоречии с традиционными представлениями о романе. В самом феномене «Люцинды» заключена определенная парадоксальность: роман вроде бы дает основания для негативных суждений и в то же время своей эстетической сутью оспаривает их.
Роман повествует о любви и галантном досуге двух главных героев — художника Юлия и его возлюбленной Люцинды. Концепция любви, лежащая в основе романа, была новым явлением в немецкой литературе того времени. Она направлена против обычных форм буржуазного брака. Ф. Шлегель считал, что «почти всякий брак есть всего лишь конкубинат». Институт обиходного брака у немецких романтиков вообще не вызывал особого восторга. Новалис, к примеру, называл брак «популяризированной тайной» и выражал сожаление по поводу того, что «у нас есть выбор лишь между браком и одиночеством».
Юлий и Люцинда живут в свободном союзе, ни юридически, ни конфессионально не оформленном. Тем самым автор хочет подчеркнуть, что его героев соединяет родство душ, общность духовных интересов, тогда как в буржуазном браке сплошь и рядом отсутствует то, что Шлейермахер определяет как «духовная составляющая любви». При этом чрезвычайно важно иметь в виду, что взаимоотношения Юлия и Люцинды — это не «свободная любовь», а подлинный брак в романтическом его понимании. В основе романа, как известно, лежит подлинная история из жизни автора, «похитившего» у берлинского банкира Соломона Фейта его жену Доротею, дочь известного просветителя Мозеса Мендельсона. Современники легко узнавали реальных лиц, скрывающихся за романтическим сюжетом. Тем не менее Э. Клин против того, чтобы рассматривать «Люцинду» «в качестве пикантного романа с ключом» Но «Люцинда» и нё автобиографический роман. Это произведение соединяет в себе черты, присущие обоим этим жанрам. Сам Шлегель определяет жанр своего романа как «дифирамбическую фантазию о Прекраснейшей ситуации».
«Прекраснейшая ситуация» в «Люцинде» — это вся полнота любовных отношений героев, сложная совокупность духовного и физического, томления и обладания. Она есть «свежее теплое дыхание жизни и любви» и лишь через нее можно приобщиться «к сокровенному средоточию тончайшего бытия». То, что Юлий и Люцинда называют «высоким легкомыслием нашего супружества», предполагает полную свободу от предрассудков и пренебрежение «остатками ложного стыда».
В современной Шлегелю немецкой литературе она особенно ярко выражена в «Вольдемаре» Ф. Г. Якоби, герои которого — Вольдемар, его жена Альвина и ее подруга Генриетта — пребывают в совершенно «нефранцузском» треугольнике, демонстрируя некую схоластическую разновидность адюльтера. Вольдемар с его «порывистой робостью» исповедует «высоконравственный» идеал дружбы между женатым мужчиной и любимой женщиной, так что Генриетта с ее «стыдливой сдержанностью» должна, как не без иронии писал Шлегель в рецензии на второе издание романа Якоби, «под личиной симпатичной женщины быть бесполой... и, в сущности, жертвой Вольдемара». Шлегель считал, что позиция Вольдемара, который «наслаждается Альвиной, не любя», а с Генриеттой связан только духовными узами, — нравственно несостоятельна, и поддерживал мнение одного из героев романа, Доренбурга, назвавшего Вольдемара «духовным распутником».
Общепринятые нравственные нормы ранние немецкие романтики считали ханжескими, остающимися всегда чем-то внешним и принудительным по отношению к индивиду. Этические проблемы понимались ими как нечто глубоко внутреннее. Шлейермахер рассуждал о «негативной добродетели». Новалис считал, что «моральный принцип — это субстанция души», и понимал невинность и добродетель как «безошибочный моральный инстинкт», т. е. как нечто органическое, существующее не потому, что это общественное предписание, а потому, что быть непорочным отвечает внутренней потребности индивида. «Система морали, — писал Новалис, — должна стать системой природы». «Безнравственность» «Люцинды» была борьбой за новую, органическую нравственность. «Высшим моим литературным желанием, — писал Ф. Шлегель, — было желание заложить основы морали». Центральный постулат этой морали Ф. Шлегелю сформулировать удалось: «Нравственность состоит в совпадении человека с собой».
В немецкой литературе изображение любви к этому времени колебалось между апологией бесконтрольной, «языческой» чувственности, наиболее ярко представленной в «Ардингелло» Гейнзе, и соображениями сугубо рационалистической этики с ее подозрительным отношением к эротическим переживаниям. Романтикам надо было как-то определиться в рамках этой оппозиции, и в то же время они сразу почувствовали ее искусственность. Ни то ни другое их не удовлетворяло. Шлегелевский Юлий «обладает ощущением плоти» и исповедует своеобразный зороастризм — он поклоняется «огню божественного сладострастия» и хочет «провозгласить евангелие подлинного наслаждения и любви». Но чувственное в его понимании всегда предполагает духовное. Он различает «божественное легкомыслие» и «бессодержательное увлечение», он убежден, что «голая чувственность без любви разрушает женскую сущность».
Романтики понимали, что чувственность как таковая опустошительна и оставляет невостребованным то высшее, что заложено в человеке и отличает его от животного. Но понимали они и другое — что в сфере чистой рассудочности нет полноценного человеческого счастья. Поэтому у них в противовес догматической этике, в любом случае остающейся чем-то внешним по отношению к чувственной сфере и осуществляющей в основном запретительные функции, складывается иное, гораздо более соответствующее характеру самого предмета представление о том, что хорошо и что плохо, своего рода естественная этика, предполагающая какой-то внутренний, рационально непостижимый механизм саморегулирования в области интимных отношений. Непререкаемая нравственная норма при этом не исчезает, она переносится в индивида и становится для него не внешним законом, а внутренней сутью.
Новалис, к примеру, различал «добродетель» — следствие соблюдения норм благопристойности, и «невинность» как внутреннее состояние личности, свободное от этического диктата. «Добродетель, — писал он, — должна исчезнуть и превратиться в невинность». Именно это и происходит в «Люцинде». Юлий и Люцинда не «добродетельны», они «невинны». Степень этической нормативности поставлена в прямую связь с уровнем духовного развития личности, когда появляются вещи, которые тот или иной индивид никогда не позволит себе сам, даже если они оказались непредосудительными с точки зрения общественной морали. Не позволять себе дозволенного — несомненный признак развития, точно так же как этическая анархия и упоение вседозволенностью есть свидетельство пребывания индивида на низкой ступени человеческой эволюции. В целом, наверное, можно предположить, что немецкие романтики достигли того состояния, когда, по словам С. С. Аверинцева, мораль «должна быть посредницей между совестью и умом».
Ф. Шлегель испытал большое влияние литературы французского рококо. Полная раскованность в сфере «страсти нежной», наслаждение как естественная потребность человека, изысканная эротическая атмосфера, в которую погружены влюбленные, отпечаток обычного рокайльного реквизита и особое изящество декоративного фона — пестрые картины, лучи солнца, пробивающиеся сквозь плотные занавески летнего павильона и окрашивающие все, включая и «ослепительные бедра» героини, в нежно-розовые тона, сам павильон, своего рода будуар на пленэре, — все это в романе «Люцинда» восходит к известной стилевой традиции и настраивает на утонченное восприятие «прекраснейшей ситуации». Новеллистический эпизод с Лизеттой, которая делит мужчин на тех, кого она не любит и поэтому позволяет им платить, и на тех, кого она любит, отсылает читателя к «Манон Леско» Прево, к «Любовным приключениям кавалера де Фобласа» Луве де Кувре. Ф. Шлегель с самого начала хотел создать «скабрезный» роман. В ноябре
И все же Ф. Шлегель выступает в своем романе не только против традиционной морали и буржуазного брака, но и против либертинажа рококо. Концепция любви у него принципиально иная. Писатели рококо, изображая «смелые» любовные приключения своих героев, оставались как бы в рамках общепринятого в жизни и в искусстве своего времени. В их литературной деятельности но было вызова общественным нравам, поскольку эти последние отличались крайней свободой, — они их живописали. Над сценами сладострастия в их романах словно витает незримый девиз: «Так поступают в свете». Один из знатоков французского романа Макс фон Вальдберг сообщает, что в середине XVIII в. во Франции бытовало мнение, согласно которому «при Людовике XIII адюльтер был разновидностью досуга, при Людовике XIV — правилом, а позднее стал обязанностью». Даже Гейне, отнюдь не склонный к нравственному ригоризму, отмечал в «Романтической школе», что нравы эпохи Регентства и Людовика XV были свидетельством «обнаглевшей плоти». Не было нужды бороться с предрассудками в этой области, и самый смелый писатель выглядел в этом отношении бытописателем и светским хроникером.
В сущности, в литературе рококо продолжает жить прежний, характерный для средневековья и закрепленный в философии Декарта дуализм духовного и физического. Манон Леско еще до смерти как бы отделила свою душу от тела и исповедовала этот дуализм органично и бессознательно. Причем в основе ее естественного поведения парадоксальным образом могло лежать и презрение к плотскому. В целом, наверное, можно сказать, что в литературе рококо предпочтение отдается не духу, а плоти, хотя в то же время особый, игриво-галантный характер этого предпочтения по-новому окрашивает и саму альтернативу. Воцаряется культ легких связей и мимолетных наслаждений, не предполагающий участия души и сердца. Рационализм, низведенный до уровня житейского здравого смысла, вторгается в сферу чувств. Рококо не знает любовных томлений и безумств. Любовь героев бестрепетна, расставание — беспечально. Она почти перестает быть переживанием, превращаясь в нечто уже неинтимное, в пикантную подробность изысканного обихода. В этом сказывается бесчувственность человека, занятого в чувственной сфере. Безлюбая любовь рококо не предполагает человека, способного на глубокие чувства, она довольствуется человеком, пребывающим в сферах холодноватой и расчетливой чувственности. Интимная сфера начинает совпадать с житейской. Настоящие чувства были, конечно, и в ту эпоху. Мадемуазель Аиссе и шевалье д’Эди связывало подлинное чувство. Но это было скорее исключением, чем правилом. Если говорить о французских влияниях, то в понимании любви Ф. Шлегель следовал не либертинистской ее концепции, а скорее Мирабо, который в «Письмах к Софии» рассматривал любовь как сочетание дружбы и чувственности.
Ф. Шлегель в своем романе тоже прославляет чувственное начало: «Сладострастие в уединенном объятии двух влюбленных вновь становится тем, что оно представляет собой в великом целом,— священнейшим чудом природы». Но сладострастие раскрывается в романе Шлегеля во всей своей полноте и силе лишь благодаря возвышенной любви — «одна только любовь превращает нас в полноценных людей», т. е. «Люцинда» — это апология единства духовного и чувственного. Отношения героев романа — это, говоря словами Новалиса, «брак природы и духа». Характер постановки проблемы любви освобождает шлегелевский роман от всякой гривуазности. Карл Розенкранц еще в
В «Люцинде» царит одухотворенная чувственность. Герои не просто наслаждаются земной любовью, но и видят в ней «тайную внутреннюю потребность в бесконечном». «Я не знаю, — писал Ф. Шлегель, — мог ли бы я всей душой чтить универсум, если бы я никогда не любил женщины». Фривольное поведение героев лишено непристойного оттенка еще и потому, что оно осмысляется не просто как бытовое, житейское, но и как некая «мистерия любви», переносится в мифологическую плоскость. «Во мне и в тебе я вижу все человечество, — говорит Юлий Люцинде, — все ступени человечества проходишь ты рядом со мной, начиная от самой безудержной чувственности вплоть до просветленнейшей духовности». Любовному соитию Юлия и Люцинды сообщается символика древнего космогонического деяния. Они — словно два неведомых бога, вознамерившихся сотворить новую вселенную, в которой «высшая и наиболее законченная жизнь была бы не чем иным, как только чистым произрастанием». Юлий и Люцинда праздны, как и подобает небожителям, они славят «богоподобное искусство ничегонеделания». Праздность, по мнению Юлия, «единственный фрагмент богоподобия, который нам еще остался от рая». Поэтому он осуждает Прометея за то, что он «совратил людей на трудовой путь». «Прилежание и польза, — рассуждает Юлий, — это ангелы смерти с огненным мечом, которые запрещают человеку возвращение в рай». Во всем этом чувствуется характерное для романтизма неприятие буржуазного утилитаризма и деловитости. Герой убежден, что только «в священной тишине подлинной пассивности можно вспомнить обо всем своем «я» и предаться созерцанию мира и жизни». Тем более что «жизнь образованного человека есть лишь постоянное творчество и размышление на тему о прекрасной загадке своего предопределения».
Ф. Шлегель, видимо, не ставил перед собой задачу всестороннего изображения Юлия, он ограничивается определением основ его мироощущения. Это было свойственно характерологии иенской школы, стремившейся индивидуальное подчинить обобщающему, «универсальному» началу. «Так как ограниченное взято лишь для того, чтобы в форме изображения показать абсолютное, — писал Шеллинг, — то герой уже как бы по самой своей природе обладает скорее символическим, нежели личным характером. Читатель получает определенные сведения о «буйной молодости Юлия», о том, что он сознательно презирал все общественные предрассудки».
Жизнь Юлия, его развитие не изображается, а характеризуется в итоговых замечаниях типа: «итак, он все сильнее запутывался в интригах дурного общества». Само «дурное общество» не становится объектом авторского внимания. Молодость Юлия, у которого уже «есть занятия в области искусства», завершается тем, что он погружается в состояние бушующей неудовлетворенности, бездеятельности и раздвоенности». Все это продолжается до тех пор, пока встреча с Люциндой и любовь к ней не раскрыли ему «смысл вселенной». Жизненный путь Юлия и его духовное развитие остаются незавершенными — и не только потому, что Ф. Шлегель не закончил свой роман. Юлий — один из «бесконечных» героев романтизма и как таковой не знает завершенности — «мой жизненный путь был окончен, но не был завершен». Человек, по мнению героя, «вечно остается осколком самого себя», ибо «только лишь в самом своем искании находит дух человеческий ту тайну, которую он ищет».
Ф. Шлегель, создавая образ Юлия, сполна реализовал один из своих теоретических постулатов об «организованном обмене между индивидуальностью и универсальностью». Именно эту особенность шлегелевского романа имеет в виду Паула Шайдвайчлер, когда пишет, что его герой выражает «надындивидуальное чувство жизни». Это уже какая-то новая функция литературного персонажа. В «Вильгельме Мейстере» Гете герой был вписан в определенное окружение, которое занимало автора не меньше, чем его герой. Рассказ о герое был в то же время и рассказом о его обстоятельствах. В «Вертере», лирическом по преимуществу романе, главное — личность героя, его индивидуальные, сокровенные «страдания», излияния этой, а не любой подобной души. Романтики же, в данном случае Ф, Шлегель, начинают отходить от «обстоятельств», но в то же время и от «лиризма» как выражения конкретной индивидуальности. Они идут в направлении создания героя, который выражает «чувство жизни», целое мироощущение. Складывается новое понимание лиризма, когда герой расценивает свое высказывание как голос универсума. «Человек говорит не один, — писал Новалис, — через него говорит универсум». Поэт должен быть «говорящим духом всех вещей». (В XX в. Рильке пишет о поэтах: «Мы только голос...»)
В. Дильтей понимал «Люцинду» Ф. Шлегеля как попытку «одним махом создать новый роман и новую мораль». Как художественное явление это произведение своеобразно до уникальности и не имеет аналога в истории европейского романа. Ф. Шлегель считал, что «всякий роман есть индивид сам по себе, и именно в этом и состоит его сущность». Повествование в «Люцинде» не создает для себя фабульного ряда, нет, соответственно, и действия. Вместо этого — отдельные разрозненные эпизоды и ситуации. И хотя в главе «Ученические годы возмужалости» говорится о развитии героя, изменения происходят где-то глубоко в его внутреннем мире и не имеют сюжетного значения. Сюжет романа складывается из вещей, которые генерируются безудержным потоком авторской речи, «дифирамбической фантазии», он адекватно отражает ее всплески и причуды. К «Люцинде» в полной мере относятся слова самого автора, сказанные им о романах Жан-Поля: «Сюжет дан столь убого, что его почти и нет и нужно лишь угадывать». Изображение действительности в романе, говоря словами самого Ф. Шлегеля, «растворяется в умственной игре настроения, остроумия и чувства». В сущности, сюжетом становится сам ход мысли автора, перипетии его рассуждений.
В то же время опасность нехудожественности, подстерегающая писателя на этом пути, благополучно избегнута. Из пестрого потока рассуждений на всевозможные темы каким-то немыслимым образом возникают живые образы и характерные ситуации. Они, по наблюдению Ф. П. Федорова, «мерцают из глубины повествования». Из совершенно непластических намерений неожиданно рождается пластика. В романе происходит то, о чем автор говорит в связи со своим героем: «все его мысли принимали видимый образ и движение, так что их действия и противодействия отличались чувственной ясностью и интенсивностью».
Ф. Шлегель писал, что прежде чем приступить к работе над «Люциндой» он «прочитал все, какие есть, английские романы». Если учесть, что в своем произведении он проявляет полное пренебрежение к элементарным общепринятым началам прозаического повествования, то подобное чтение было ему, видимо, необходимо в основном для собирания отрицательного заряда. Он вообще хотел создать нечто противоположное традиционному роману, «в котором персонажи и события являются конечной целью». Эпическое начало он не считал для романа чем-то определяющим. В «Люцинде» рефлективное явно преобладает над живописно-нарративным. При этом на всех уровнях ощущается завуалированное стернианство, скрытая полемика с различными разновидностями европейского, прежде всего английского, романа — от семейно-бытового до приключенческого. Следование «образцам» вообще не входило в намерения Ф. Шлегеля, убежденного в том, что в искусстве есть «лишь новые манеры, а завершенного стиля нет никогда».
Во всяком случае Ф. Шлегель писал «Люцинду», имея весьма своеобразные представления о жанре романа. Он видел в нем сочетание «истинных арабесок» с «исповедью». Под «арабесками» писатель понимал «остроумную игру образов». Арабески — одно из главных средств выражения романтической иронии Ф. Шлегеля, этого сложного философско-эстетического явления, принимающего в «Люцинде» характер отрицания традиционных форм романа и превращающегося в косвенную насмешку над стремлением их канонизировать. Гегель характеризовал иронию Ф. Шлегеля как «концентрацию Я на самом себе». Форма арабески была для подобной концентрации пригодна как ни одна другая. Самоирония и игровое начало неотделимы от художественной манеры «Люцинды». В этом Ф. Шлегель предстает как ученик Шиллера, полагавшего, что «из всех состояний человека именно игра делает его совершенным». Арабески в романе Ф. Шлегеля — это свободный полет фантазии, легкая ироническая импровизация, исходящая из убеждения в относительности конечных вещей. При этом ирония остается в собственных границах и не имеет не только конкретного объекта, но и предмета. Суть шлегелевских арабесок — в «иронической беспредметности», которая дает возможность использования самых разных стилистических форм. «Люцинда» отличается пестротой и мозаичностью стиля. Относительно спокойное повествование чередуется с бурными проявлениями «дифирамбической фантазии», философские рассуждения сменяются динамически-игривыми диалогами Юлия и Люцинды, стремительно влекущими к фривольной развязке, беззаботная хроника жуирующего повесы контрастирует с письмом Юлия, полным озабоченности судьбой матери и ребенка, и т. д.
«Люцинда» задумана Ф. Шлегелем как произведение, которое в соответствии с требованиями романтической теории романа содержит в себе собственную теорию. Именно эго имел в виду автор, когда писал, что его роман «обозначает переход от эстетики к поэзии»28. При первом прочтении романа может сложиться впечатление, будто он написан чуть ли не на одном дыхании. Это впечатление обманчиво хотя бы потому, что замысел романа относится к
Роман Ф. Шлегеля представляет собой фрагмент неосуществленного и, скорее всего, неосуществимого целого. Автор называл его не иначе, как «первый томик», и намеревался дать во втором «изображение современности». Анализ обширного рукописного наследия писателя, проведенный Йозефом Кернером, показал, что Шлегель «не собирался ограничиваться проблемой любви, брака и сексуальной этики, как это получилось в первом томе; его роман ничуть не в меньшей степени, нежели новалисовский «Офтердинген», должен был стать универсальным изображением романтического духа». В то же время незаконченность «Люцинды» отнюдь не противоречила представлениям ранних романтиков. Незаконченность представлялась романтикам эстетически более содержательной, более соответствующей природе искусства, нежели скрупулезная завершенность иных романов, придающая им характер вторичной действительности. Ф. Шлегель писал в этой связи, что «незавершенность сообщает возвышенному новую, высшую прелесть».
Л-ра: Филологические науки. – 1992. – № 2. – С. 30-40.
Произведения
Критика