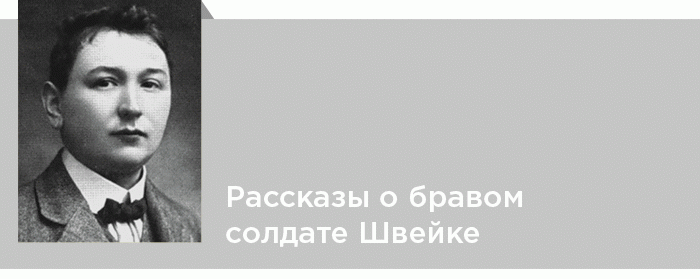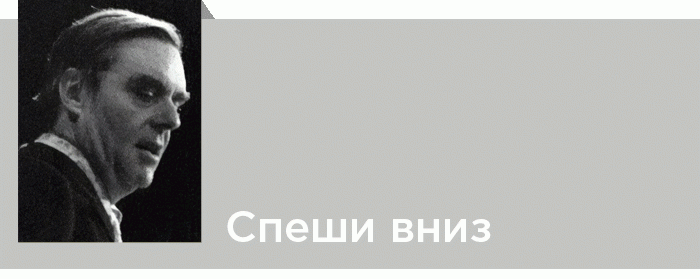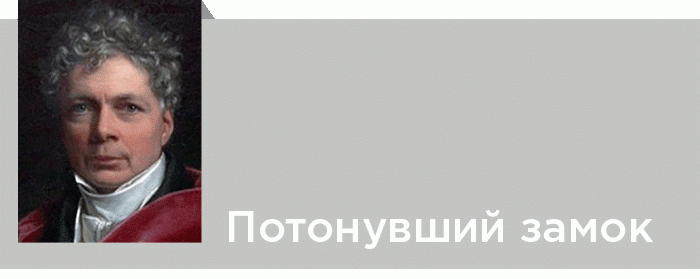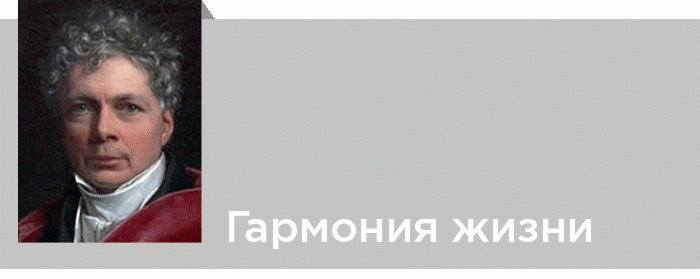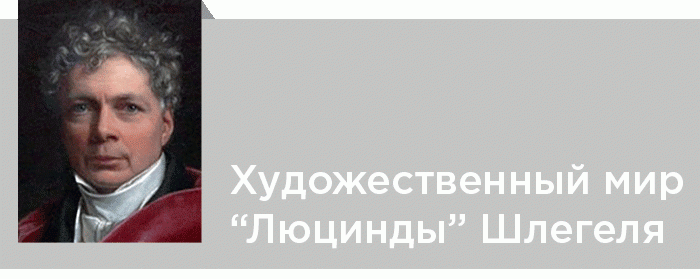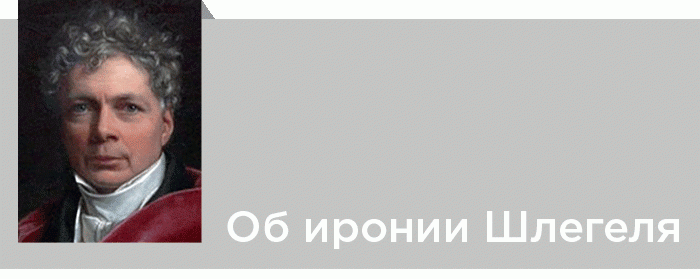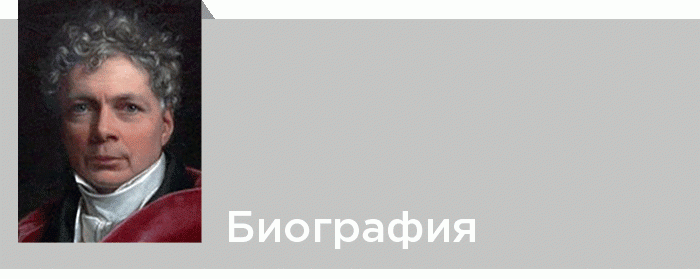Старонемецкая живопись в теоретическом осмыслении Фридриха Шлегеля (журнал «Европа», 1802-1804)
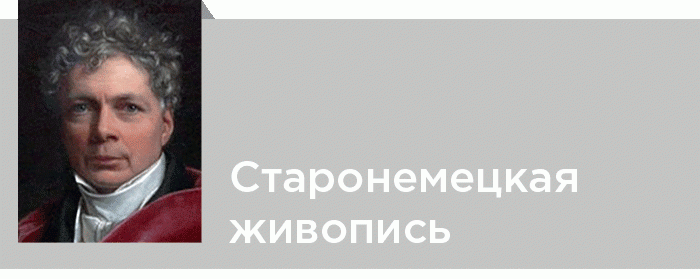
Е. В. Иноземцева
Интерес немецких романтиков к национальной культуре, и в частности к образцам старонемецкой живописной школы, развивался постепенно, направляемый несколькими ключевыми принципами нового эстетического сознания. С одной стороны, представители первого поколения романтиков (Вакенродер, Тик) были движимы стремлением выработать альтернативный классицистическому подход к интерпретации произведений искусства. Непререкаемый авторитет сочинений историка искусств Й. Й. Винкельмана, полагавшего основой и целью творческого акта подражание прекрасной идеальной природе, которая в своей полноте и завершенности была зафиксирована в образцах античного искусства (прежде всего пластики), определял инструментарий и общую телеологию любого рассуждения об искусстве в конце XVIII в. Сочинение В. Г. Вакенродера «Сердечные излияния отшельника, любителя искусств» (1796) открывается рассказом «Видение Рафаэля», где повествуется о магическом прозрении художника, видении прекрасного образа Мадонны, который ему удалось запечатлеть на холсте. В начале этого рассказа содержится недвусмысленное указание на то, что автор этих строк отделяет себя от тех «теоретиков и создателей систем», которые, зная о вдохновении «понаслышке», т.е. не получив необходимого подлинного духовного опыта, пускаются в невежественные умствования, сочетая и меняя местами лишенные смысла описания. Вакенродер отвергает стратегии бесчувственного, абстрагированного, системно-исторического суждения об искусстве и вводит важнейшую для романтического сознания категорию «божественного вдохновения», которая определяет как деятельность художника, так и восприятие произведения искусства зрителем. Высказанный в «Сердечных излияниях...» отказ от следования классицистическому тезису о приоритете античного искусства в качестве образца и идеала для любой творческой деятельности скрывает в себе одно важное следствие: романтики вводят в «большую», каноническую историю культуры бывшие прежде маргинальными области европейского искусства — средневековую живопись, архитектуру, ритуальную скульптуру и т.п. Закономерным кажется тот факт, что Вакенродер в «Сердечных излияниях...», а затем и Тик в «Странствиях Франца Штернбальда» чрезвычайно высоко оценивают творчество Альбрехта Дюрера, приравнивая его к мастерам итальянского Кватроченто. То, о чем чуть раньше говорил Гердер — о равноценности и равновеликости плодов духовной деятельности разных эпох и народов — именно в романтической идеологии обретает свое внутреннее историческое оправдание и становится предметом литературного и научного осмысления.
Еще одним фактором, спровоцировавшим особенный интерес романтиков к национальной культуре, явилось общее духовное устремление эпохи к католицизму. Католицизм в романтическом — особенно раннеромантическом — сознании приобретал весьма причудливые формы, вбирая в себя элементы неоплатонизма, мистического учения Я. Беме; для поколения йенских романтиков важна была скорее «внешняя», связанная с ритуалом сторона католицизма — богослужение, молитва — как общее выражение напряженности духовных поисков, подлинности внутреннего порыва, а не зафиксированные в учениях Отцов Церкви догматы веры. Обращение к католицизму в начале XIX в. — это выражение тоски по цельности духовного пути, причем как отдельного человека, так и целой нации. Идеализированное романтиками представление о средневековой церкви, тотально распространяющей свое влияние на все области деятельности человека, есть то самое объединяющее духовно-нравственное начало, которое способно возродить сверхисторическую, вневременную преемственность культуры, установить подлинную, освященную присутствием Божественного абсолюта связь между различными ее феноменами. В этом смысле именно культура, искусство, т.е. эстетическое, понимаемое как «Божественное», оказывается первопричиной и катализатором религиозных поисков романтизма. Тезис об «искусствоцентричности» романтического сознания, об онтологическом статусе эстетического находит свое подтверждение не только в художественных, но и в теоретических текстах романтиков, в частности Фридриха Шлегеля.
В шестом томе собрания сочинений Фридрих Шлегель дал своим эстетическим рассуждениям общее название «Воззрения и идеи о христианском искусстве». В этом названии скрываются программные установки романтика: во-первых, указывается на принципиально фрагментарный характер написанного; «воззрения и идеи» предполагают относительно свободное формальное выражение в виде эссе, поэтического очерка или краткого замечания о том или ином произведении. Высказанный Шлегелем отказ от системного описания, предполагающего последовательное рассмотрение образцов искусства в исторической перспективе на основе универсального метода, позволяет ему не только включать в поле своего рассмотрения самые разные произведения искусства, но и не заботиться о формальном единообразии написанных очерков — их границы оказываются очень подвижны, вбирая в себя и личные впечатления, и религиозные аллюзии, и необходимые теоретические выкладки. Во-вторых, «Воззрения и идеи о христианском искусстве» очерчивают определенную область искусства, находящуюся в фокусе интересов Шлегеля. Понятие «христианское» в его трактовке — это не обозначение культурноисторической эпохи, когда создавались те или иные произведения, а своеобразное выражение общего духовного устремления, которое возможно выявить как в работах мастеров итальянского Ренессанса, так и в старонемецкой живописи. «Христианское искусство» — это искусство, ориентированное, по мысли Шлегеля, на проникновение в царство Божественного духа, на выявление сущностных смыслов; оно всегда апеллирует к внематериальному, форма произведения такого искусства есть всегда органическое продолжение и следствие его внутреннего содержания. Закономерным образом Шлегель выводит из круга своего рассмотрения скульптуру как область искусства, наиболее тесно связанную с материалом, телесной плотностью. Более того — во второй и третьей тетради «Европы» Шлегель, настаивая на разделении пластического и собственно живописного начала в искусстве, подвергает критике некоторые работы Микеланджело и Рафаэля за «античность, скульптурность» образов, «напоминающих в своей чувственной и слишком декоративной возвышенности Юнону или Диану». По его мысли, собственно «христианское искусство» есть живопись, которую он называет «священной» и «боговдохновенной» и считает наиболее «действенным средством для соединения с божественным и приближения к божеству».
Любопытно, что позиция Шлегеля периода работы над четырьмя тетрадями журнала «Европа», — которая претерпевала в процессе ряд трансформаций, — радикально отличается от той, что занимал юный Шлегель, впервые оказавшись в Дрезденской картинной галерее. В
Искренняя увлеченность братьев Буассаре старонемецким и нидерландским, «северным» искусством, а также специфические исторические обстоятельства3 предопределили начало собирательской деятельности братьев. Их задача состояла не просто в спасении произведений, сохранении «культурной памяти», но в выработке новой концепции, которая оправдывала бы их эстетический выбор и способствовала дальнейшему пополнению коллекции. И здесь трудно переоценить роль Фридриха Шлегеля в качестве духовного наставника, ментора, разрабатывающего теоретическую основу, утверждающую вновь открытое искусство в иерархии привычного «набора» признанных шедевров, дающего зрительскому и профессиональному взгляду новую точку отсчета в системе восприятия и оценки произведений искусства. Сотрудничество коллекционеров и уже признанного лидера романтического движения оказалось взаимовыгодным: братья Буассаре заручились в лице Шлегеля необходимой интеллектуальной поддержкой, утвердившей их в намерении продолжать и постоянно пополнять свое собрание, а также активно его продвигать на актуальной художественной сцене, Шлегель же в свою очередь получил огромный материал, который он смог продуктивно освоить на страницах журнала «Европа».
Принимая во внимание специфику метода рассуждений Шлегеля, его установку на принципиальную фрагментарность, сформулированную в названии «Воззрения и идеи о христианском искусстве», интересным кажется проследить механизмы его теоретического анализа. Общая для романтиков убежденность в том, что отказ от «наукообразной» системы анализа приводит к более эффективному выявлению сущностных черт предмета, открывающему некие смысловые лакуны, познаваемые только при помощи чувства, «божественной» интуиции, позволяет Шлегелю свободно «рассеивать» свои теоретические выводы в пространстве текста, построенного в виде характеристик картин. «Характеристика», по его мысли, создает целостное впечатление, в которое включается не только непосредственное визуальное переживание, но также и возможные интерпретации и критические замечания. Язык по-прежнему остается основным средством представления картины, но меняется система его использования: он не передает индивидуальное «чувственное впечатление», но «живо выражает дух произведения изобразительного искусства». «Характеристика» одновременно замещает и вбирает в себя теоретическое осмысление картины; общие историко-культурные экскурсы, анализ формальных принципов подчинены единственной цели — выражению не «прелести и красоты, а значимого... высокого божественного значения»6 живописи. Вопрос о том, насколько «новая объективность» Шлегеля-романтика в описании картин действительно является объективной, остается в высшей степени спорным, на что указывали его идеологические оппоненты, и в особенности Гёте. Но неоспоримым остается тот факт, что способ и предмет описания Шлегеля сформировали целое поколение молодых художников в Германии, которые приняли новую теорию, изложенную на страницах журнала «Европа», как непосредственное руководство к действию.
Следуя принципу выражения Божественного смысла живописи, Шлегель в первых тетрадях «Европы» в сочинении «Описания картин из Парижа» начинает постепенно осваивать вновь приобретенный визуальный опыт и наравне с описаниями картин мастеров итальянской школы живописи (Рафаэль, Корреджо, Джулио Романо и др.) представляет искусство художников старой немецкой школы. Термин «старая немецкая живопись» (altdeutsche Malerei) Шлегель трактует максимально широко, включая сюда, помимо Дюрера и Гольбейна, творчество Ван Эйка, Мемлинга и других нидерландских художников: «Первая и древнейшая ступень художественного развития представлена в немецкой школе Ван Эйком... искусство завершает свое развитие законченной точностью и правильностью, доведенной до внешнего лоска, как у Гольбейна». Очевидно, что в данном случае для Шлегеля важна не специфика локальной национальной школы, но духовная общность представителей североевропейской живописи, раскрывающаяся в «религиозном благочестии» их искусства. Шлегель отводит значительное место описанию фрагмента Гентского алтаря Ван Эйка «Поклонение агнцу» (1426-1432), в котором он в каком-то экстатическом порыве отчаянно нагромождает религиозные термины и аллюзии: «Другая картина Ван Эйка представляет Агнца Апокалипсиса. Он возвышается на алтаре и из его груди сочится в чашу кровь. Вокруг алтаря молящиеся ангелы и серафимы, в отдалении — четыре хора святых Дев-мучениц, исповедники веры, апостолы, папы... Вверху в небе — голубь, от которого исходят лучи света и изливаются вдохновением на стоящие хоры. На переднем плане — фонтан с бьющей живой водой» и т.д. Шлегель избегает конкретных указаний на композиционные особенности картины: мы получаем лишь информацию о том, что в картине все-таки есть передний и задний план, но создается впечатление, что это не более чем вспомогательный речевой оборот, «разреживающий» плотность описываемых образов. Перенасыщенность текста религиозной символикой, которая не получает никакого дополнительного толкования, призвана создать единовременное впечатление, мгновенный эффект мистического переживания. В продолжение описания Гентского алтаря Шлегель упоминает о трех других его частях, изображающих Бога Отца, Богоматерь и Иоанна Крестителя, начиная их характеристику совсем уж причудливым образом: «...египетская возвышенность и неподвижность этих прямых строгих божественных образов...». По меньшей мере странная в данном контексте апелляция к египетской образности абсолютно оправдана с точки зрения суггестии зрительского (читательского) восприятия: «египетская возвышенность и неподвижность должна возбуждать внутреннее благоговение... и притягивает нас при всей своей отпугивающей серьезности так, как непостижимые памятники великой и строгой эпохи».
Еще один триптих, описываемый Шлегелем, принадлежит кисти нидерландского живописца XV в. Ганса Мемлинга. Так называемый «Триптих Мореля» (1484) исполнен в жанре вотивной картины, написанной художником по обету, данному неким лицом, пожелавшим таким образом вознести хвалу Богу за оказанную Им благодать — обычно исцеление (в Средние века, например, от чумы) или успешное завершение какого-либо рискованного мероприятия (паломничество, военное сражение и т.д.). Начиная описание, Шлегель сразу указывает на приоритетное направление, за которым следует рассуждение: «Таковой является здесь картина старого художника Хеммерлинка, изображающая святых на фоне пейзажа...». На центральной части триптиха изображен «несущий на плечах Младенца Христа святой Христофор... переходящий реку. По обеим сторонам — высокие скалы, слева — св. Бенедикт, справа — св. Эгидий... пейзаж на створках является продолжением центральной части; он настолько спокойный и зеленый, естественный, немецкий и волнующий, что редко отыщешь подобный». Шлегель весьма любопытным образом организует характеристику пейзажа: он выстраивает синонимический ряд из качественных прилагательных, реферирующих к абсолютно разным свойствам предмета — цвету, состоянию и, наконец, национальной принадлежности (!). Подобное соположение опять-таки направлено на то, чтобы смотрящий (или читающий) смог моментально составить себе представление об изображении. В этом отношении Шлегель предоставляет зрителю невиданную доселе свободу восприятия и интерпретации: ведь индивидуальное ощущение «спокойного, зеленого, немецкого, естественного» оказывается совершенно отличным от того, что под этим подразумевает не только другой зритель, но и сам автор. Утверждение доступности подлинного понимания искусства, отсутствие необходимости обладать знанием эксперта — вот, пожалуй, одно из основных достижений Шлегеля периода создания «Описаний картин из Парижа».
Постоянно поддерживаемый энтузиазмом братьев Буассаре интерес Фридриха Шлегеля к образцам старого североевропейского искусства становился все более интенсивным. Существенную роль в этом сыграло их совместное путешествие по Германии (Кельн, Дюссельдорф и др.), по результатам которого возникла новая серия описаний картин, известная как «Третье дополнение к старинным картинам», вошедшая в заключительную тетрадь «Европы». Сравнивая описания из Кельна и Парижа, мы видим эволюцию Шлегеля, который приобрел дополнительные знания о предмете: теперь в его текстах меньше встречается не вполне оправданных парадоксов, вызванных (ранее в парижских описаниях) скорее отсутствием информации, нежели полностью осознанным применением нового метода. Характерным кажется также более дифференцированное отношение к творчеству Дюрера.
Во втором и третьем «Дополнениях к старинным картинам» Шлегель выступает уже как более зрелый теоретик искусства; характер его рассуждений приобретает основательность и целостность, что наглядно подтверждают описания конкретных картин. Среди многочисленных гравюр Дюрера Шлегель выбирает для подробного описания те, которые представляют Богоматерь (цикл 1502-1505 гг.). Он особенно акцентирует символическую природу изображений великого немецкого мастера: «...месяц у ног, высокая корона парит над головой, длинные волосы до пят, в ниспадающем, словно покров, одеянии. Где мог бы существовать столь художественно законченный образ, который представлял бы нам небесную царицу... во всем величии, блеске и привлекательности и который бы вполне соответствовал достоинству и глубокомыслию этого древнего символа? ...И как... изображена у него Богоматерь в саду... <Она> предстает как настоящее воплощение и символ самой бесконечной природы!». Введенные Шлегелем понятия «картина-символ», «картина-иероглиф» становятся центральными в эстетической теории романтизма. Таким образом, ценность художественного произведения оказывается прямо пропорциональна его способности выражать сущностные смыслы, божественную идею; в творческой практике художника это возможно осуществить только в символической форме.
Любопытно, каким образом усилия Шлегеля по «теоретизации», закреплению новых эстетических принципов сочетаются со стремлением возбудить в зрителе (читателе) непосредственное личное переживание увиденного (описанного). Он не просто говорит о глубоком символизме образов Мадонны у Дюрера, апеллируя к сфере религиозного опыта, но и упоминает «волосы до пят», «ниспадающее одеяние», т.е. детали, открывающие чувственную сторону изображения.
«Третье дополнение к старинным картинам» примечательно прежде всего описанием картины Альбрехта Альтдорфера «Битва Александра и Дария» (1529), в котором обрели свое воплощение основные романтические идеи Шлегеля, касающиеся новой стратегии рассуждений об искусстве. Представив описание картины на античный сюжет, Шлегель вступает на не освоенную им территорию. Перед ним стоит задача доказать универсальность применяемого им метода и убедить сомневающихся в его эффективности и оправданности. Он начинает с того, что дает жанровую характеристику полотну Альтдорфера, называя его «рыцарской картиной»: такой вывод Шлегель делает на основании «присутствующего рыцарского духа», который свойственен средневековым поэмам. Альдорфер, выбирая сюжет из античной истории, остался верным национальной традиции, не впал в искушение «подражательной антикизирующей манеры», и ему удалось создать подлинно эпическое полотно, «содержащее в себе весьма значительную и истинную аллегорию». Применяя понятие аллегории, Шлегель в итоге возводит все происходящее на перенасыщенном фигурами и действиями полотне до уровня максимально обобщенного символа: «Океан, высокие скалы, между ними остров-утес... слева — заходящий месяц, справа — восходящее солнце; столь же ясное, сколь и великий символ изображенной истории». Особое внимание при описании этой картины Шлегель уделяет замечаниям о ее техническом исполнении, основательность и совершенство которого, по его мнению, неразрывно связаны с немецкими национальными особенностями. Немецкая живопись, если она сохраняет свою самобытность и не погружается в бесплодное копирование, подражание античности, не только являет собой пример высокого мастерства, но и оказывается способной «схватывать в чувственном и магически фиксировать в игре красок самобытное и подлинно духовное».
Описания картин мастеров старонемецкой школы, представленные Фридрихом Шлегелем на страницах журнала «Европа», не только открыли для серьезных эстетических штудий новую область искусства, но и зафиксировали своим появлением «тектонические» сдвиги, которые произошли в европейском сознании начала XIX в. Подготовленный Вакенродером, Новалисом, Тиком «романтический переворот» в традиции литературного освоения художественной практики различных эпох обретает в сочинениях Фридриха Шлегеля свою теоретическую завершенность. Впервые четко сформулированная им стратегия описания картин окажет существенное влияние на объективный ход развития искусства, инспирируя опыты молодого поколения художников и открывая новый период в истории европейской художественной критики.
Л-ра: Вестник МГУ. Серия 9. – Филология. – 2007. – № 4. – С. 100-108.
Произведения
Критика