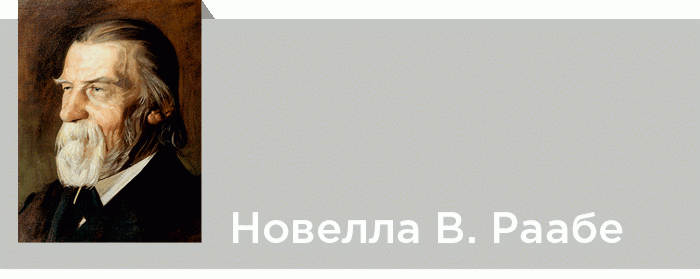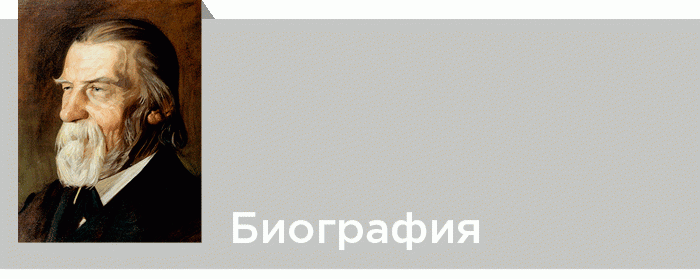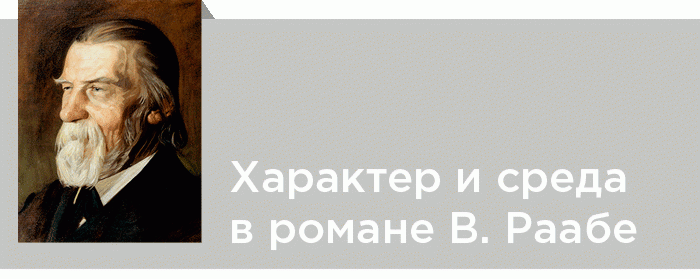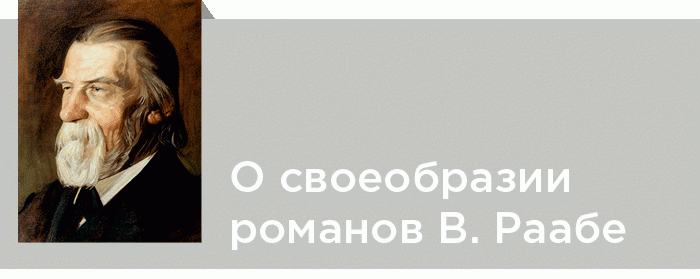Вильгельм Раабе. Записки учителя Михеля Хааза
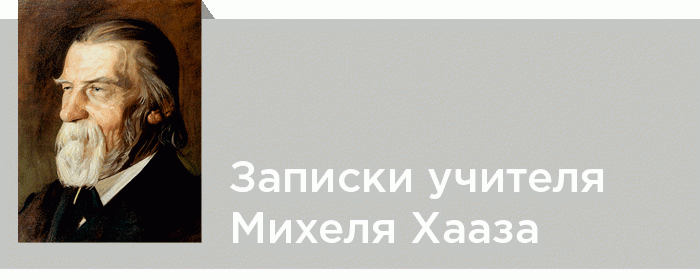
(Отрывок)
(Из старой рукописи)
Шестого июня 1697 года от рождества Христова покойный мой батюшка в глубоком раздумье прохаживался по своему знаменитому веттербургскому питомнику, который он арендовал во владениях Вальдекского графства. Батюшка что-то бормотал, насвистывая сквозь зубы, покачивал головой и то и дело скреб у себя за ухом.
Недаром он казался столь озабоченным: ведь в саду рядом с ним бегали и резвились двенадцать неугомонных ребятишек, двенадцать мальчуганов и девчонок. Они вертелись у него под ногами, цеплялись за полы его кафтана и никак не давали ему собраться с мыслями, чтобы спокойно и разумно подготовиться к появлению нового члена семьи, который намеревалась ему подарить его дражайшая половина, моя любезная матушка, страдавшая сейчас в доме за зеленеющими деревьями и кустами.
— Тринадцатый! — промолвил он. — Вот так женщина! Дай господи, чтобы все кончилось благополучно!
И все кончилось благополучно. Не успели часы на башне пробить шесть, а дьячок зазвонить к вечерне, как в саду веттербургского арендатора начался великий переполох. Деревенская повитуха осторожно подняла над двумя дюжинами ручонок орущий сверточек и поднесла его прямо к носу моего батюшки, и хотя батюшке это было не в новинку, тем не менее он весело подпрыгнул.
— Ура, мальчишка! Толстый шустрый мальчишка! Виват старухе!
И батюшка галопом кинулся через сад, а за ним с диким криком понеслась вся орава, все, кроме маленькой шестилетней девчурки, которая, подойдя к повитухе, осталась с нею в знаменитом питомнике и, с удивлением разглядывая созданьице, орущее в пеленках, принялась расспрашивать о нем и задавать всякие нелепые вопросы, на которые никто в целом свете не мог бы ответить. Это была моя сестрица, Иоганна Магдалина Хааз, которая теперь давно уже умерла, так же как отец и мать и прочие одиннадцать крикунов — все мои братья и сестры. Упокой, господи, их души, да и мою с ними!
Множество всяких животных — собак, птиц, белок и кошек — жило у нас в доме; много цветов цвело под нашими окнами; солнце и месяц освещали нас своими лучами; батюшка играл на скрипке как заправский музыкант, а матушка пела колыбельные песни звонким, словно у юной девушки, голосом, хотя она была уже совсем не молода, когда я появился на свет божий.
К тому же двенадцать моих братцев и сестриц смеялись и плакали на все голоса, но никто не наказывал их, терпеливо снося шум. Да, веселый был дом у отца под Веттербургом, в графстве Вальдек!
В 1702 году батюшка переехал в Роден на собственную мызу; мне как раз минуло пять лет.
У меня и сейчас сердце радуется, как только вспомню наш веселый переезд на новую родину. Когда на сороковой день распахнулись врата Ноева ковчега на горе Арарат и люди вместе с животными вышли на свежий воздух, они, конечно, радовались не больше, чем радовались мы. На всех моих белокурых сестренках были пестрые венки из красных маков и голубых васильков, все мои братцы выбивали деревянными ложками о медные котелки походный марш и столь усердно дули в трубки и лейки, что щеки у них готовы были лопнуть.
На передней повозке отец соорудил для нас, — для малютки Михеля и для матери, — превосходный навес из зеленых ветвей. Сидя под ним, мы возглавляли шествие, ибо следом за нами гнали коров, коз и свиней, тоже в венках, которыми их, по местному обычаю, украсили работник и обе служанки, не захотевшие расставаться с нашей семьей и теперь переезжавшие вместе с нами на новые места.
В Родене я прожил до четырнадцати лет, там же учился в школе, там же был конфирмован. При этом оказалось, что я очень люблю занятия и книги, к великой радости моего батюшки, ибо никого из моих братьев он не мог принудить к науке, иначе как посадив на хлеб да на воду и угощая гибкой лозой.
Поэтому как-то на рождество он стал держать совет с моей милой матушкой, и я, приникнув к двери, узнал, что к пасхе мне соберут узелок и отправят к источнику учености, дабы я мог вволю испить из него и утолить свою жажду знания.
И вот, когда сошел снег, деревья и кусты снова зазеленели, а первоцвет и подснежники снова распустились в лесу, я и вправду сказал прости отчему дому, батюшке, матушке и всем моим братцам и сестрицам и с грустью на сердце отправился вместе с двумя моими товарищами через зеленеющие луга и леса в город Липштадт.
Прекрасная крепость город Липштадт! Достаточно часа, чтобы его затопить, ибо как раз возле него протекает река Липпе. Этот город принадлежит королевству Бранденбургскому. Говорят, что однажды, в давно минувшие времена, граф фон дер Липпе проиграл его прусскому королю, кроме одной только улицы, которая и по сей день все еще платит подати Липпе-Детмольдскому герцогству.
Ах, как забилось мое сердце, когда я впервые увидел вдали крепостные башни!
Но еще больше забилось оно, когда я вошел в городские ворота, и попутчики мои тоже приумолкли. Когда же мы очутились перед дверью господина ректора и никто из нас не отважился к нему постучать, тогда все закружилось у нас перед глазами. А когда наконец растворились двери и мы увидели черную фигуру среди множества книг, тогда перед нами завертелись не только книги, и глобус, и большая печка, но и его милость господин ректор.
Однако все сошло лучше, чем думали мы, трепеща от смущения. Подобно семерым швабам, повстречавшим зайца, мы робко притиснулись в комнату. Тут старец поднял нос, украшенный очками, и оглядел нас с головы до ног.
- Salvete juvenes! — сказал он. — Подойдите поближе, сорванцы. Самый высокий, оставайся у дверей, самый маленький, подойди ко мне, средний, — ступай к печке.
Я был самым маленьким. Я подошел к креслу старика и остановился.
- Веnе! — сказал он и оглядел нас еще раз. — Германская кровь, caerulea pubes. Голубые глаза, белокурые волосы, крепкие кости! Но, но... eheu, давайте посмотрим, как обстоит дело с латынью.
Обстояло весьма плохо, но кое-как сошло, и нас всех троих приняли даже в старший класс, а меня ученый муж отличил от прочих и взял под свое особое покровительство.
Ему я обязан тем, что весьма скоро меня пригласили наставником в дом смотрителя за укреплениями, где и началась моя карьера учителя, ибо здесь мне пришлось обучать азбуке трех буйных и злых мальчишек.
Так начались страдания, которые выпали мне на долю в сем бренном мире. И не суждено им кончиться, доколе меня не освободит смерть.
В нашем зеленом веттербургском питомнике, в отчем доме под Роденом, пели и свистали все, кто только мог открыть рот. Казалось, что все наше семейство родилось в птичьем гнезде. И это пошло мне весьма на пользу. Ибо не успели узнать, что я знаком с музыкой, как меня тотчас же взяли в церковный хор, и я стал ходить со школярами петь под дверьми, как это делал и божий человек, наш доктор Мартин, о чем мы неоднократно читаем в «Застольных беседах» и в разных других его сочинениях.
Так минуло мне шестнадцать лет, и тут напала на меня лихорадка, и столь измучила меня, что мне пришлось вернуться домой к матушке в Роден. Это был печальный путь, и еще печальней был его конец, ибо когда я, худой, бледный и дрожащий, взглянул сквозь забор, окружавший наш сад, надеясь увидеть кого-нибудь из своих, то я заметил свечу, которая горела средь белого дня, а в сенях, искусно посыпанных белым песком и красиво украшенных цветами, стоял маленький деревянный гроб. Скрипка моего батюшки печально пела в мансарде, и больше не слышно было ни звука. В маленьком гробике лежала в белом платьице Иоганна Магдалина, которую я всегда любил больше всех моих братьев и сестер, а матушка сидела у нее в Изголовье, безмолвно припав головой к гробу, и вокруг тихо стояли и сидели все прочие — и взрослые и малыши.
Майским утром мы опустили милую девочку в могилу, где ей суждено покоиться вплоть до дня радостного своего воскресения в лучах вечной зари.
На обратном пути матушке пришлось вести меня под руку, так ослабел я от болезни и горя. Когда же мы пришли домой, батюшка вынул свою скрипку, мы уселись в кружок под большой липой в саду и запели хором:
Чередуются для всех
Плач и смех.
Ясный день и злая вьюга
Заменить спешат друг друга,—
Это дело божьих рук.
Тише, друг...
Возблагодарим же за эту песнь благочестивую принцессу Елизавету Юлиану Брауншвейгскую.
Наконец, с помощью материнского ухода, мне удалось вытравить лихорадку из своей крови и костей, и я снова отправился на чужбину, но уже не в Липштадт, а в Детмольд, в тамошнюю гимназию, и господин ректор Хильгер повел меня в Гербергаузен, в поместье, расположенное неподалеку от города. У здешнего управляющего было двое малолетних детей, которых я и стал обучать. Однако мне нужно было каждый день ходить отсюда учиться в Детмольд и два раза в неделю петь в хоре. И тут меня взяли в дом к господину обер-шталмейстеру фон Гейдерштедту и приставили обучать юного дворянина. Но до этого со мной произошла история в Гербергаузене, о которой я и хочу рассказать.
У управляющего были три взрослые дочери, и младшая сияла передо мною, словно луч солнца в дождливый день.
Я тоже понравился ей. Так случилось, что мы полюбили друг друга, и я обещал жениться на ней и ввести в наш дом как свою законную жену. Но когда и куда, этого, по чести, я и сам не мог бы сказать.
О, жалкое сумасбродство и дурацкое обещание юного хвастунишки!
Но отец девушки скоро проведал о наших делах, ибо нашел пряжку от моего башмака там, где ей вовсе не полагалось быть. Он и побежал с найденной пряжкой прямо к господину ректору. Произошел большой скандал, и по этой причине мне пришлось оставить гимназию и хор.
Однажды, когда мы все сидели за столом, мой патрон вытащил эту пряжку и спросил — не моя ли она?
— Да, — ответствовал я и пригнулся, ибо он схватил оловянную тарелку, собираясь запустить ее мне в голову. Тут жена бросилась к нему и схватила его за руки.
Мы же с дочками выскочили из-за стола и кинулись врассыпную, словно куры, спасающиеся от коршуна, а моя белокурая милочка горько-прегорько заплакала.
Увидев это, я собрался с мужеством и, стоя на пороге, сказал, обращаясь к разгневанному тирану, что в честной любви нет ничего зазорного и нельзя запретить молодому человеку заглядываться на красивую девицу.
Он же кричал, что еще доберется до меня! Уж он переломает мне руки и ноги!
На этом все и кончилось. Я продолжал учительствовать, и любовь моя, разумеется, не остыла.
Однако что же произошло потом?
Стоял зимний день, лежал глубокий снег, вороны прогуливались по сугробам, хозяйки не было дома, она отправилась к кумушке поболтать. Хозяин возился на чердаке, и мы не ждали никакой беды. В маленькой горенке три девицы сидели за прялками, а я за столом, держа перед собой календарь. Однако я не читал, ибо календарь уже подходил к концу, а я выучил его наизусть еще год тому назад. До меня долетали тихий шепот и хихиканье, прерываемые звонким смехом. Наконец колеса прялок совсем перестали вертеться и жужжать.
В комнате на оконце в цветочном горшке стоял розмарин. Его вырастила моя милая, он принадлежал ей. Я попросил его в подарок, и она согласилась. Тогда я обломал цветы, и все три девицы помогли мне сплести венок. Мы поднялись с ним по лестнице и прикрепили его к дверям девичьей светелки. А моя милая спрятала в ладони свое зардевшееся личико и смотрела на меня сквозь растопыренные пальчики, и ей было весело и смешно. Но вдруг, подобно огню, поразившему людей Кореевых, на нас грянула беда.
— Девчонка, ты почему торчишь здесь с парнем? — загремел сверху голос, и удары посыпались градом.
Дубинка так и гуляла по нашим головам и плечам, по рукам и ногам — словом, по чем попало. Тиран кулаками загнал свою дочь в комнату и снова вытолкал ее оттуда, Напрасно я бросился между ними, стараясь, чтобы как можно больше побоев пришлось на мою долю. Наконец мне удалось схватить старика за шиворот, и я так притиснул его к стене, что у него глаза полезли на лоб.
Тогда он изо всех сил треснул меня по носу, кровь хлынула у меня ручьем, но я не разжал рук.
Наконец старик угомонился, а я, вспомнив, что он мой хозяин, выпустил его. Но мне пришлось тотчас собрать свой скарб, ибо оставаться здесь дольше было невозможно. В слезах я простился со всеми и в тот же вечер, сквозь снег и тьму, побрел в Детмольд. Правда, моя милая тайком прибежала ко мне и умоляла вернуться, и хозяйка тоже просила об этом, но тут вмешался ректор Хильгер и добился того, что меня взяли к обер-шталмей-стеру, о чем я уже говорил. У этого шталмейстера я пробыл целый год, а потом мне пришлось уйти, и я отправился в Лемго, где предо мной открылась дорога к погибели, столь широкая, как никогда впоследствии за всю мою долгую жизнь.
Попал я здесь к булочнику по имени Кнегбе — к вдовцу, а хозяйство вела его старшая дочь. У нее был внебрачный ребенок восьми лет от роду, его я и должен был учить. Все шло хорошо, я снова начал ходить в школу и в хор. Но это была странная жизнь, полная наваждений дьявола. Увы! Разве не женщины повинны во всех искушениях рода человеческого, начиная с тех дней, когда Ева соблазнила Адама вкусить от запретного яблока?
В глазах окружающих я вел самую роскошную жизнь, ибо ел удивительнейшие пироги; и лукавая прелестница часто приходила по ночам, когда их пекли, и совала мне в рот самые лакомые куски. Она покупала мне в лавке наилучшие платья и подарила мне шляпу с серебряными кружевами. Когда ко мне приходили мои приятели-школяры, я угощал их сколько душе угодно, а она сидела, распевая вместе с нами и бросая взоры то на одного, то на другого, но чаще всего на меня. А старик отец не смел ни рта раскрыть, ни посетовать, что бы тут ни творилось, ибо все, что взбредет дочке на ум, то и ладно, то и хорошо!
Кончилось тем, что меня и здесь, в Лемго, вызвали к ректору. Ну и отчитал же он меня!
— Сынок, сынок, а вдруг она запечет тебе в пирог какое-нибудь зелье, чтобы приворожить тебя к себе на всю жизнь? Cave, cave, Михель Хааз! Тебе уготованы сети и силки. Берегись, дабы не низринуться в бездну, из которой нет возврата, нет спасения!
Слова ректора запали мне в душу. Но как выпутаться из этой истории? Этого не знал ни я, ни тем более ректор.
Мысль о приворотном зелье, которым она может меня опоить, терзала меня и днем и ночью, и чем любезнее становилась эта женщина, тем тошней мне делалось, тем сильней отвращал я от нее свое сердце и помыслы. Вот тут-то и пришло письмецо от матушки, и как раз вовремя. Я бежал подобно Иосифу, бежавшему от жены Пентефрия, только я не кинул свой плащ, а, напротив, мало-помалу, незаметно вынес из дома все свои вещи и оставил только ящик, в котором они хранились и который принадлежал прекрасной распутнице. Сбежал я в самый канун Нового года, сказав, что мы вместе с другими школярами решили идти «славить Христа».
Таков был обычай тогда у лемгоских студентов. Когда кончались все деньги и в животе начинало бурлить и урчать больше, чем полагается, студенты выходили за ворота и направлялись за несколько миль от города. Там они обходили разные селения, посещали гильдии и цеха и пели перед знатными господами, славя Новый год семь дней подряд. А потом они возвращались восвояси, с деньгами, яйцами и мешками, набитыми всякой снедью, и снова начиналось развеселое житье!
Против этого довода никто решительно не мог возразить. Мне поверили, и, набив карманы сладкими пирогами, я отправился в путь-дорогу, чтоб никогда больше не возвращаться. Мои приятели проводили меня с песнями через весь город до самых ворот, ибо я решил уйти из школы, поскольку мне казалось, что я знаю все науки, какие только необходимы учителю. У ворот все по очереди снова обняли и расцеловали меня и торжественно выпили со мной на прощанье. А затем я один побежал сквозь густой туман, окутавший местность, и даже не оглянулся, хотя мне все время казалось, что сатана кричит мне в ухо: «Дурак! Дурак! Дурак! О, дурак, дурак, дурак!»
Так я очутился в деревне и в награду за свою добродетель должен был наняться к сельскому старосте в Хюндерзене обучать трех его сыновей; и вдобавок мне еще пришлось научиться всякой тяжелой работе — молотить, колоть дрова, ходить на охоту. Но мне это пришлось гораздо больше по нраву, чем сидеть на одном месте! Да, житье здесь было веселое, ибо, кроме моих маленьких учеников, у старика были еще три взрослых дочери и восемнадцатилетний сын, который тоже учился в детмольдской школе. Девицы были кроткими и приветливыми, а сын научил меня стрелять дичь и натаскивать легавую. Да, мне, право, хорошо жилось! Только на этот раз вышло все не так, как прежде. До сих пор девушки сами льнули ко мне, теперь влюбился я.
Увы! Увы! Та, которую я втайне любил, уже отдала свое сердце и слово другому, сыну арендатора-богатея. Пришло время сенокоса, наступила пора жатвы, но эта мысль терзала меня непрестанно, и я стал бледным и тощим, как в ту пору, когда меня трясла злая лихорадка. Но я никак не мог уйти отсюда, и мне казалось, что я привязан к этому месту тысячей пут и что не суждено мне вырваться, прежде чем бросят последнюю горсть земли на мой гроб.
И все же я вырвался!
Мой хозяин был преудивительным чудаком; он никогда не был трезв и то и дело заглядывал в свой стенной шкафчик. К тому же он страстно любил музыку. Она-то и помогла мне спастись, но для этого понадобилось, чтобы в дело опять вмешалась злая баба.
У моего хозяина был брат, который жил у него на хлебах. Этот брат играл на фаготе, сын на флейте или на гобое, я же пиликал на скрипке.
Вечером, едва только кончался ужин, как начиналось веселье. Все приносили свои инструменты; девицы усаживались в кружок, а работники и служанки толпились у дверей и окон. Наконец мы начинали; но что бы ни играли другие, мне всегда казалось, что каждый звук, который я извлекаю из скрипки, предназначен для одной только Анны-Марии.
Так мы играли, пока руки не отказывались нам служить. Тут всех отпускали на покой, — кроме меня одного. Я должен был сидеть с хозяином до полуночи и петь ему лютеровские хоралы.
Как только я запевал, он опускал голову на стол и начинал храпеть, да так, что стены дрожали. Но стоило мне замолчать, и он тотчас же просыпался и спрашивал: «Уже все?»
- Да! — ответствовал я.
- Тогда спойте другой.
И так раз пять или шесть подряд, пока я уже не в силах был издать более ни звука, а жена старосты, лежа рядом в спаленке, начинала ругать нас олухами и ворчать все громче.
- Раз вы не хотите петь, значит, вы мне больше не учитель! — заявлял хозяин, и мне приходилось запевать снова, пока старику наконец и самому надоедало. Тогда он вставал, шел со мной к стенному шкафчику и подносил мне стакан можжевеловой водки или дарил два гроша. Теперь и я, охрипший и усталый, мог залезть под перину.
Но что же случилось дальше?
Однажды, поздней осенью, сидели мы вечером, я и мой хозяин, и я пел во все горло «Восславим господа бога нашего...». Хозяин, по обыкновению, храпел. Лампа, как о том свидетельствовали многие опасные признаки, давно уже грозила погаснуть. Наконец стало ясно, что в ближайшее мгновение нам придется петь в полнейшей тьме. Поэтому я поспешил закончить хорал искуснейшей фиоритурой. Мой староста проснулся и поднял красный нос и заплывшие сонные глазки. Спотыкаясь, он с трудом пробрался за печку, где обычно стояла жестянка с маслом, но ее там не оказалось.
— Жена, — крикнул он в спаленку. — Где жестянка с маслом? Дай-ка нам свечу, мне и моему учителю!
- На сегодня хватит! — раздался голос, пронзительный, как у вспугнутой совы. — Марш в постель!
- Значит, не желаешь, старуха?
- Нет, нет и нет, сумасшедшие негодяи!
- Она не желает, Михель! — сказал мой хозяин и ткнул меня локтем в бок. — Видишь, как весело быть женатым? Намотай-ка себе на ус. Я заметил, что ты целишься на мою старшую, — вот тебе славный пример. Полюбуйся, что такое бабье!
- Заткни глотку, пьянчуга, и оставь в покое нашу дочь! — послышался визгливый голос из спаленки. — Какое дело этому паршивому учителишке до нашего дитяти?
- Никакого, старуха! Так ты не дашь мне масла? Иначе мы петь не сможем.
- В третий раз повторяю: нет, нет и нет!
- Оставайся здесь, учитель! — пробурчал мой хозяин и ощупью стал пробираться в темноте из комнаты. Я услышал, как он возится где-то рядом, но не мог понять, что он там затевает.
Через некоторое время хозяин возвратился и сказал:
- Продолжай. Спой «Кто уповает на господа бога...». Это самый подходящий псалом при всяческих бедствиях.
Я затянул псалом и дошел уже до третьего стиха, но вдруг поневоле умолк, ибо наша горница мало-помалу наполнилась странной вонью и дымом.
- Продолжай петь, Михель Хааз, — сказал, усмехаясь, старик. — Станет еще хуже!
И действительно, стало еще хуже! Мое пение превратилось в кашель и чихание, а хозяин надрывал животики, как вдруг из каморки раздался вопль:
- Господи Иисусе, что там случилось, муж? Уж не загорелся ли дом? В этакую непогоду?
На дворе шумел и ревел осенний ветер; раскачивая деревья, он выл и свистел и метался по трубам, словно бесноватый, в которого вселился легион дьяволов.
Сперва чихали и кашляли только мы со старостой, потом те же звуки послышались из спальни. Наконец раздался грохот — хозяйка соскочила с кровати и одним прыжком очутилась среди нас.
- Пожар! Пожар! — вопила она. — Пожар! Пожар! — кричал и мой патрон. — Пожар! Пожар! — пронеслось по всему дому.
- Разбуди дочерей, учитель!— сказал мой благодетель, и я вихрем взлетел по лестнице. Но, увы, когда я спускался вниз, у меня уже пропала охота любезничать с прекрасной Анной-Марией. Увы! О, увы!
Тем временем весь дом поднялся на ноги — работники, служанки, дети, кошки и птицы. Огня теперь было предостаточно, и при его свете мы бросились на вонь и дым.
— Фр, фр! — фыркнул мой патрон и снова ткнул меня в бок так, что я чуть не зашелся от боли. — Запомни, учитель, хозяин в доме — мужчина! — Тут в кухне поднялся страшный крик, мы бросились к очагу и сразу увидели причину переполоха.
Все старые метлы, какие только были в доме, три шерстяных носка, изорванная в клочья шерстяная женская юбка — все это преспокойно дымилось и тлело. В комнате стоял густой дым, а труба была заткнута самым старательным образом, дабы не дать улетучиться хоть капле этого адского зловония.
Ух и набросилась же на нас хозяйка! Словно бешеная кошка она старалась вцепиться всеми десятью когтями в лицо мне и хозяину. То-то была умора! Только мне было совсем не до смеха, я готов был плакать! А виной тому была Анна-Мария, и сын соседского арендатора, и лестница в саду, прислоненная к стене нашего дома.
На другой день я собрал свои пожитки и ушел, хотя старик ни за что не хотел лишиться моего пения и сулил мне все, что только душе угодно.
Но я ушел, не помня себя от ярости, упрямства, ненависти и презрения.
Мне окончательно опротивело учительство. А чего не сделает человек, когда он почти рехнулся? Итак, я снова отправился в Детмольд и вступил там в прусскую кавалерию. Надо сказать, что в это время кавалерийским полком в Кенигсберге командовал граф Карл фон дер Липпе. Но накануне того дня, как принести присягу, меня покарал господь, я заболел и долго-долго пребывал между жизнью и смертью, уже не надеясь поправиться. За мной ходил работник из Хюндерзна, который из любви ко мне тоже решил отправиться на войну и увез с собой служанку со старостиного двора. Когда граф Карл со своими вербовщиками и рекрутами отбыл в Кенигсберг, моему работнику пришлось последовать за ним, и он громко плакал возле моей койки, оттого что я не могу ехать вместе с ними. Вслед за этим я впал в забытье и долго лежал в беспамятстве, пока снова вернулся к жизни.
Когда я впервые открыл глаза, я увидел словно сквозь туман старика с очками на носу и большой книгой на коленях, который сидел рядом с моей кроватью.
— Батюшка?! Любезный батюшка?!— воскликнул я, не понимая, где я и что со мной.
Да, это был действительно мой батюшка, а рядом с ним сидела моя матушка, и она стала всхлипывать от радости, когда увидела, что и на сей раз я избежал смерти.
Они ухаживали за мной, словно два воробушка, которые высидели кукушонка. Правда, они прочли мне нотацию и задали головомойку, но только когда убедились, что я в силах перенести ее без вреда для моего слабого тела и духа. А потом меня уложили на повозку и увезли домой, где многое изменилось за минувшие годы.
Ну и подивился же я, увидев, что маленькие замарашки, мои сестрицы, превратились в цветущий венок прекрасных девиц. Тут были блондинки и шатенки, голубоглазые и черноокие! Одни уже носились с сердечными тайнами, другие их еще не знали.
Все мои братья разбрелись по белу свету, кроме самого старшего, которого батюшка, по слабости своего здоровья, оставил при себе и передал ему все хозяйство.
Однако никто из нашего гнездышка не перевидал и не испытал так много, как я, самый младшенький. И зимою и летом мы собирались по вечерам, и я рассказывал без конца. Но о многом я умолчал, из боязни сплетен и злых пересудов.
При всем том батюшка был мной очень доволен, и если раньше, бывало, он водил и поддерживал меня, то теперь мне пришлось отплатить ему тем же. Мы часто вдвоем уходили в поля, поглядеть на высокую зеленеющую рожь, или в тенистый лес; там мы забирались в прохладный, укромный уголок и беседовали об урожае, о школах, в которых я побывал, о французах и турках и о разных диковинных вещах, которые встречаются на свете. Так мы сидели и разговаривали, покуда не раздавался звонкий голос, чьи-то быстрые глаза замечали нас во ржи или в кустах, и сестренка бросалась к нам, подобно резвой серне, и требовала, чтобы мы тотчас же шли домой к матушке ужинать.
Скрипка отца все еще звенела и пела. Но мелодии, слетавшие с нее, звучали гораздо торжественнее и медленнее, и благочестивые хоралы лишь изредка сменялись веселым танцем. Я тоже вторил ему на скрипке, но частенько играл и один, убаюкивая старика, который погружался в легкий сон.
Произведения
Критика