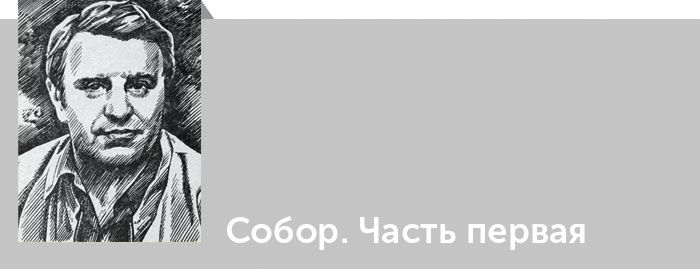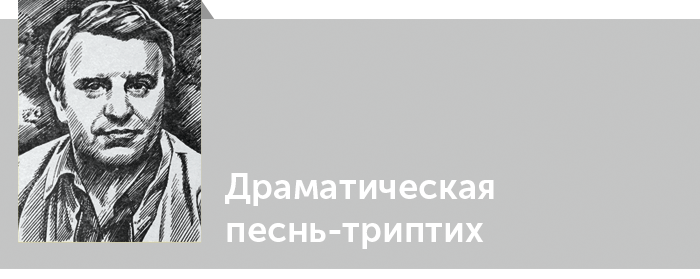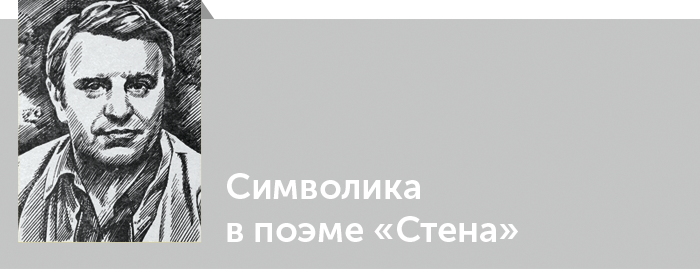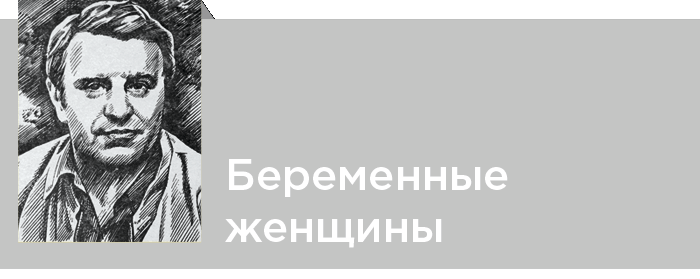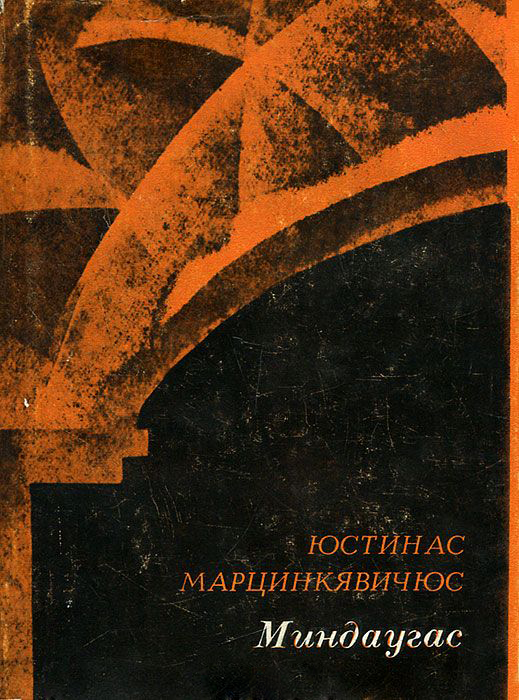Единство травы и камня. Валерий Липневич

Опубликовано в журнале:
«Дружба Народов» 2003, №12
Еще относительно недавно выход тома стихотворных переводов был явлением обычным для русского поэта, живущего в какой-либо из советских республик. Книга воспринималась чем-то вроде обязательного отчета и достоверного свидетельства о проделанной работе. Сегодня это уже исключение, реликт прошлой, хотя и недавней эпохи. Поэтому появление подобной книги вызывает такое же двойственное чувство, как неожиданное, предзимнее цветение наивного куста, пригревшегося в укромном уголке сада.
Радуя совершенством полиграфического искусства и художественного оформления, как и в нашем случае с Ю.Кобриным, все же спокойной и прочной радости эти издания не приносят: се последние книги. Да и само название — “Я вас переводил…” (в прошедшем времени) — прибавляет печали.
Безусловно, бум стихотворного перевода с языков народов СССР — ничего подобного не было нигде в мире — имел и свои издержки, количество часто переходило в калечество. Но институт стихотворного перевода существовал в советской культуре, воспитывая и читателей и авторов, подпитывая одновременно и такое исключительное, тоже советское явление, как профессиональная поэзия.
Для любого национального автора, издавшего несколько книг на родном языке, существовала реальная возможность явиться к широкому читателю, быть на слуху, пусть только именем.
Пожалуй, наиболее полно возможность эту реализовала литовская поэзия. Будучи в основных своих устремлениях поэзией земли, языческой по духу и крестьянской по мироощущению, тем не менее по форме она была достаточно усложненной, с более высоким уровнем осмысления этой земной реальности, чем русская такого же направления. Литовская поэзия являла крестьянское мировоззрение обобщенным и сгущенным до символа, превращенным в хранящий и порождающий миф. Возможно, это следствие большей жизненной устойчивости и цепкого прагматизма литовского народа, который всегда помнил о том, что он малый и выжить может, только сосредотачиваясь и прижимаясь поближе к земле.
Литовская поэзия явила не “блуд труда, который у нас в крови” (Мандельштам), но благоговейное понимание роли труженика на земле, вечного создателя первичных и ничем не заменимых ценностей. И при этом она “утвердила силу условности поэзии, подымающейся над уровнем иллюстраторской описательности и натурализма”. Этим привлек в свое время читателей Э.Межелайтис, а вслед за ним — А.Малдонис, Ю.Марцинкявичюс и более молодые М.Мартинайтис,
С. Йонаускас.
“Стихи Межелайтиса, — писал в свое время Владимир Огнев, — радостный гимн плоти, земле, краскам, семени, дающему плоды”. Этим радостным гимном, неизбывным счастьем жить литов-ская поэзия постоянно подпитывала русскую. Русская поэзия в своих вершинных явлениях представляется все же, за исключением солнечного Пушкина, поэзией печали. На другом полюсе — поэзия эйфорически-цветаевского или маяковского возбуждения. Куда она приводит, показали личные судьбы поэтов. Правда, к Пушкину в XX веке добавился Пастернак. Почему-то спокойная и полновесная радость жизни чужда русскому творческому духу.
Воспринимаясь как нечто значительное, литовская поэзия, вероятно, именно поэтому привлекала к себе достойных переводчиков, которые были прежде всего и оригинальными поэтами, — Ю.Левитанского, Л.Мартынова, В.Микушевича, Д.Самойлова, Б.Слуцкого.
Смысл любого перевода — взаимодействие и то, что в результате него возникает. А то, что непереводимо, как замечал Ницше, “не есть ни худшее, ни лучшее”, и поэтому оно вполне безболезненно выносится за скобки культурного обмена.
Для любого талантливого поэта было делом чести переводить литовскую поэзию. Хотя переводов “с литовского на сберкнижку”, как замечает Ю.Кобрин, тоже хватало. К тому же в советские брежневские времена Литва да и Прибалтика в целом были почти таким же литературным оазисом, как и Грузия, только с более сдержанной культурой общения. Это была толика Европы, до-ступная и, возможно, достаточная для части советской интеллигенции, обделенной благами западной цивилизации.
Судьба Юрия Кобрина давно и прочно связана с Вильнюсом. Он для него не экзотика, а место жительства — многонациональный город, в котором природа и культура соединены наиболее органично. Я не знаю другого города на территории бывшего Союза, где чувствуешь себя так комфортно и защищенно. Стоит напомнить, что подарен он Литве Советской властью и до 1939 года носил имя Вильно. А по-белорусски — Вильня, она, колыбель белорусской литературы и до сих пор объект ностальгических упований некоторых ее литераторов.
“Я русский сын земли литовской”, — признается Ю.Кобрин в стихотворении “Вильнюс”. Но если в одном из последних советских сборников, посвященных Литве, “Янтарное побережье”, этими строками стихотворение и заканчивалось, то в нынешней публикации — оно открывает книгу переводов — имеет продолжение:
…Но руту, василек, тюльпан
копытит вдрызг, подобно овцам,
согласная с вождем толпа:
— Литва принадлежит литовцам!
Литва принадлежит? Нет, мы
принадлежим Литве все вместе,
кто не поддался власти тьмы
в своем достоинстве и чести.
Но, как свидетельствует и выход этой книги, пик национального экстремизма миновал, хотя действительность оказалась вовсе не такой, как грезилось возбужденному национальному сознанию. Обнадеживает и то, что поддержку своему дорогостоящему начинанию Ю.Кобрин получил “не от русской секции писательского союза, а от литовских коллег”. Тем более что поддержку получила авторская антология. Как замечает переводчик, “не всех устроит соседство поэтов, разных по стилю, эстетике и политическим воззрениям… Но это — мой выбор”. Возможность этого выбора также говорит о многом.
Открывает книгу европейски раскованный, ценящий все реальные радости мира — видеть, слышать, думать, любить — до последнего часа “вакханки розы кличут на праздник амура” — Эдуардас Межелайтис. К сожалению, порог треть-его тысячелетия он не перешагнул. Есть в нем что-то от греческого бога, не только радующегося, но и дарящего радость.
Книга Межелайтиса названа “Гномы” — поэтические миниатюры разных лет. Но есть и вставки более крупного объема. Как замечает сам поэт, любящий и умеющий себя объяснять: “Форма стихотворений, возможно, непривычна: знаков препинания нет, слова порой расставлены, как в зубчатой системе передачи шестерни — всякое колесико не-ожиданно может оказаться то вверху, то внизу. Используя древнегреческую стихотворную форму (гнома) и постоянно ее нарушая, пытаюсь сказать о философских проблемах, трагедии, красоте мира”. От этого старательно объясняющего поэта так и веет родным совет-ским (кто-то скажет “совковым”). Да, в подкорку любого автора была вживлена забота о читателе и — главное — о редакторе, который должен все понимать. Но должен ли что-то понимать читатель, которого нет? Этой реальности поэт не прозревает. Тираж-то всего 1000 экземпляров.
я дерево — идите с топорами
но корни вам не выгрызть и зубами
Каждый поэт навсегда остается в своем времени, а читатели и есть его корни. Много в стихах Межелайтиса печальной мудрости, диалектики мира, который бесконечен в переходах от света к мраку и который всегда остается одним и тем же. Так что не стоит особенно напрягаться, хотя сохранение неких параметров и обязательно для осмысленного и достойного человеческого существования.
каков уж есть таков и есть
грехов моих тебе не счесть
но сохранил и ум и честь
прими меня открыт я весь
Межелайтис глядит на мир несколько философски-отстраненно, создавая вполне приемлемую для себя эпикурейскую нишу, не чуждую красоты и смысла и регулярно проветриваемую ветерком скепсиса, — он хотя и советский, но все-таки барин.
Юозас Мацявичюс, по контрасту с ним, — поэт социального зрения. Он плебей, труженик, даже внешне (фотография) похож на рабочего или крестьянина — подтянут, строг, с папиросой “Беломорканала”, а не с трубкой, как хохочущий Межелайтис. Мацявичюс изгоняет все романтические смутности: мир есть таков, каков есть. Видит он его неподкупным и суровым мужицким взглядом:
Мы не Радзивиллы, не Сапеги.
Все мы — дети, внуки крепостных.
Все — и от сохи, и от телеги,
Но живем во временах иных…
Если б отмоталась жизни лента
К нам назад, то в гордый дом вельмож
Спикер ли, премьер ли, президент ли
Вряд ли б стал за двери даже вхож.
Жизни их — в той Речи Посполитой…
Наши — в той, где мучилась Литва.
Были на земле своей забиты,
Не хочу я сдерживать слова!
Преклоняюсь пред величьем храма,
В стенах чудо дивное живет…
Возвели для послушанья хама,
Кирпичи скрепил соленый пот.
Мысли эти не новы, и грустно,
Что они верны для всех времен, —
Как голодный человек, искусство
Раболепствует и бьет поклон.
Встреча с современным литовским поэтом такого плана была для меня несколько неожиданной. Но тем не менее он существует на карте сегодняшней поэзии как напоминание о нравственности — первом условии подлинно демократического искусства. “Еще/ Я по жизни/ Твердо иду./ Не продаюсь./ Не продаю”.
Социальные мотивы сильны и у Юстинаса Марцинкявичюса. Картина мира отличается лишь в деталях. Ее изменение воспринимается как гибель своего мира. Марцинкявичюс несколько лиричней — “когда же в последний раз/ рожь во мне расцветала,/ вскрикивала перепелка/ в ожидании жатвы?” — и одновременно склонен к более пространным и отвлеченным размышлениям.
Лишь люди и звери. А боги исчезли.
И вряд ли, что были. А миф иль молитва
на древе истории — плод перезрелый.
Осталось животное только на свете.
Сильнейшего право. Оружие, зубы.
Свобода насилья. Виктория плоти
над духом, что умер. У трупа бал правит
материя. Танец ее безобразен.
Повсюду — бесстыдная пляска инстинктов.
Обмана и лжи торжествует искусство.
Процесс распада всегда мало привлекателен — будь то в природе или в социуме. Но может ли поэзия закрывать глаза, затыкать уши и нос, оказавшись на свалке истории?
Марцинкявичюс относится к миру так же, как и его предки, которые выжигали вырубки, а “вечерами думали трудно/ обо всем, что увидели за день,/ смысл пытаясь постичь и причину”. Крестьян-ские поиски здравого смысла — вот его единственная вера, трагически противостоящая сегодняшнему безумию постмодернистского восприятия. Это “единство травы”, упрямо противостоящей “единству камня” в разделенном мире. Трагедия в том, что бездумная агрессия камня приводит в итоге к его гибели — то есть к победе природы над культурой: площади былых городов зарастают травой. Сохранить мудрое равновесие травы и камня — задача человека.
Представлены в книге и поэмы Марцинкявичюса. “Поэма любви”: “Поэтому говорю: надень/ платье цвета ржи созревающей,/ чтобы любовь и хлеб/ неразделимыми стали”. “Донелайтис”: “Враг силен был кулаком железным, красотой родною речи — он” (С.Нерис). “Древо познания”: “Людям, крышу слова поднимавшим, книгам, нашу колыбель качавшим”. С крестьянской бережливостью собирает и сохраняет поэт то наследие прошлого, которое укрепляет мудрость и самосознание народа.
Рамуте Скучайте, как и положено женщине, непосредственней, эмоциональней, но тем не менее она тоже склоняет голову перед землей, которая “правит миром”, а потому “добра и мудра”. Хотя сегодня для нее “все здесь черно. И все — не мое”.
Встав на колени, льну к земле. Слезу
на куст, расцветший за ночь, я роняю,
я плачу по тебе, с собой равняю
рябину, пережившую грозу.
Но снова, как и всегда, после любой грозы, “сладкий дурман плывет от земли” — “встречай же меня/ для тепла и любви”. В общем-то, стихи печальные: необратимость времени, одиночество, не покидающая до конца мечта о любви. Некая наивная цельность и угловатость натуры. И — неожиданно — детские стихи, в которых происходит чудо преодоления судьбы, превращение стихов в поэзию, будней — в праздник.
Пранас Ращюс ушел из жизни в 55, не дожил до независимой Литвы несколько лет. В его стихах чувствуются повышенная, уже не крестьянская ранимость, незащищенность. В какой-то мере их можно рассматривать как вестников уже назревших перемен.
Как старая сосна, качайся
и день и ночь, качайся, жизнь.
И не ломайся в одночасье,
корнями за гору держись.
Потребность в подобных заклинаниях и выдает ощущаемую неустойчивость. Душевное неблагополучие, неустроенность, привычно маскируемые мощными символами Земли и Родины, тем не менее звучат достаточно отчетливо: “чужим стал дом родимый”, “иду, словно поле отчизны / сознательно мною же выжжено”. И совсем немыслимое в устах его ровесников признание: “Ведь бытие так хрупко”.
Даже рожь, нечто онтологически бытийное, поистине фундаментальное в поэзии его ровесников, кажется всего лишь мотыльком, хотя и бессмертным.
А рожь неполный год живет
и к солнцу полный колос тянет...
………………………………
Живым и вечным колоском
остановила рожь мгновенье…
Из поколенья в поколенье
летит бессмертным мотыльком.
Цикл стихотворений “Ночь, когда умерла мать” можно назвать маленькой поэмой. Мать, Дом, Хлеб, Отец — на всем печать бренности, неутомимо текущей и безжалостной жизни. Как сказал он в другом стихотворении: “И березы в краю любимом,/ и прохожий,/ идущий мимо,/ все куда-то гонимы…” Но сам-то поэт знает, откуда он и куда: “Я из Литвы,/ и я иду в Литву”.
Юозас Някрошюс прочно стоит на привычной и традиционно незыблемой почве. Это подтверждает и цикл “Люди моей деревни”. Жизнь для них — прежде всего работа на совесть, она-то и заставляет быть сильным, выстоять, упираясь до последнего.
Но, вспоминая юность, он тоже задается вопросом, в котором уже чувствуется угроза, казалось бы, незыблемому миру: “Кто мы, почему нам мало Жизни той, что рядом есть?” Ю.Някрошюс не подстерегает мгновение, он фиксирует устойчивое, повторяющееся. Ценит реалистическую деталь и умеет ее выразительно подать — как в “Балладе о бутылке молока”, найденной за пазухой у расстрелянного крестьянина. Если у П.Ращюса самый любимый и значимый образ — мотылек, у Ю.Някрошюса — камень. “И твердостью мы тоже / С камнями очень схожи”. В стихотворном репортаже “Хийумаа провозглашает гордость” — о маленьком эстонском острове, который становится у поэта символом самодостаточного и достойного существования, — поэт реализует потаенную, идиллическую мечту не только литовского крестьянина. В сегодняшнем все более обостряющемся противостоянии цивилизации и природы крестьянин — последний представитель традиционного общества — всегда и везде на стороне последней, вместе с травой против камня. Но сохранится ли большой и сильный мир со всеми его глобалистскими претензиями, если исчезнет слабый и малый? И сохранится ли малый, если исчезнет большой?
Юрий Кобрин представил нам поэтов, разных прежде всего по типу личности. Контрастно дополняя другу друга, они дают, хотя, конечно, и несколько схематичную, картину своего времени. Ведь соединяет их именно время. Очевидно, что все они — советские поэты, сложившиеся в те годы, когда Литва была одной из самых процветающих республик Советского Союза. По-разному можно относиться к этому времени, но оно создало культуру, демократичную в своих основных устремлениях. Именно в этот период литовская поэзия, даже в большей мере, чем проза, успела зафиксировать в слове и явить миру самосознание своего народа. Будущие исследователи литовской литературы этого периода, следуя самым строгим критериям, старательно отмечая слабости и недостатки — возможно, им покажется непростительным само изобилие стихотворной продукции, — все же, безусловно, отметят дух высокого ремесла, который лежит в основе любой прочной и самосохраняющейся культуры.
Руза
Юрий Кобрин. Я вас переводил… Малая антология. — Вильнюс: «Алка», 2002.