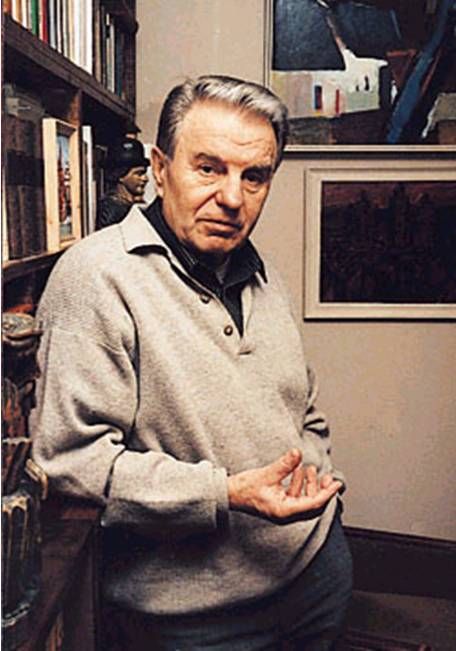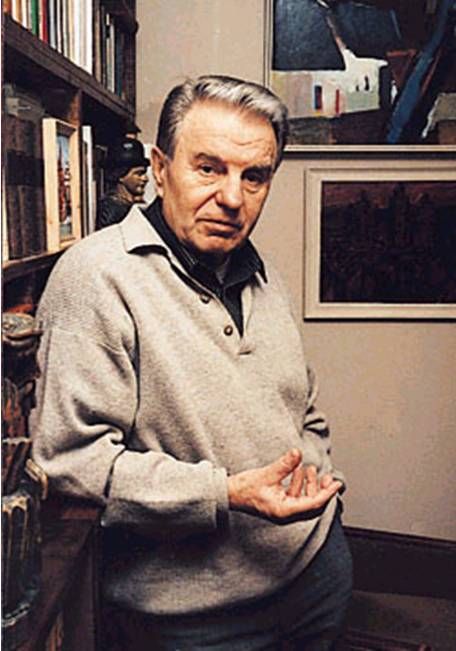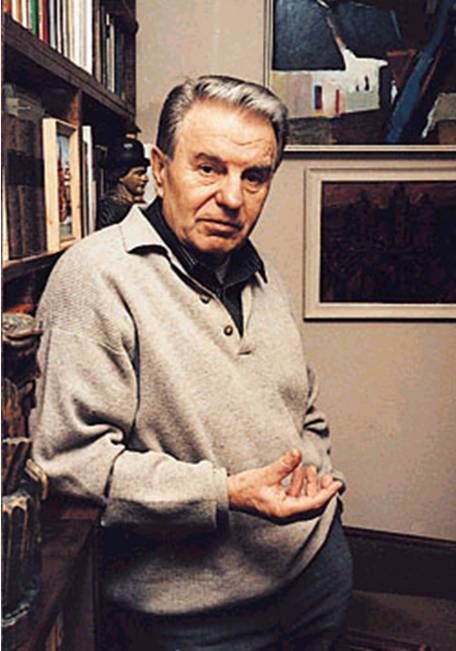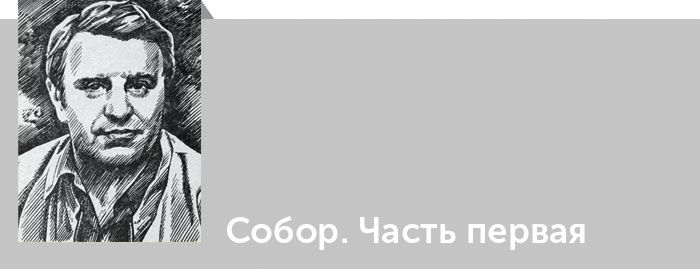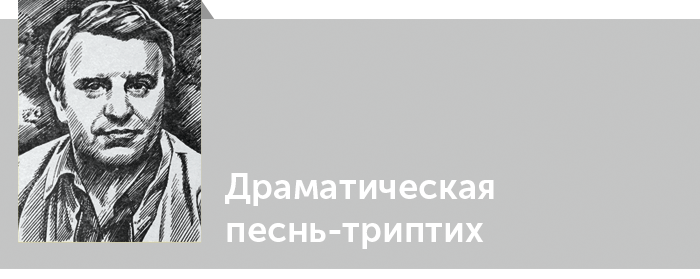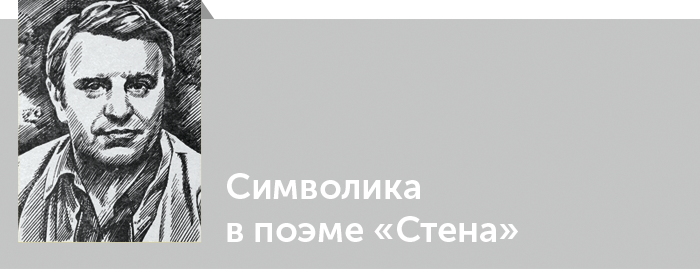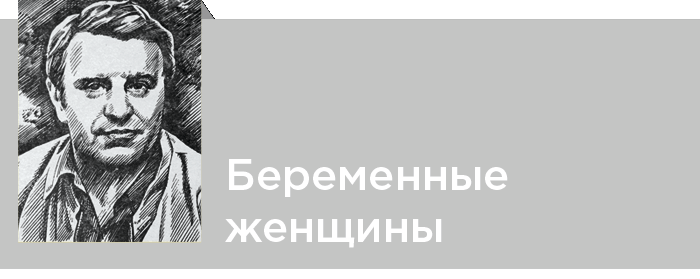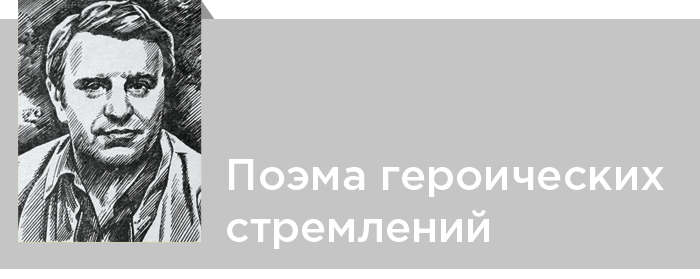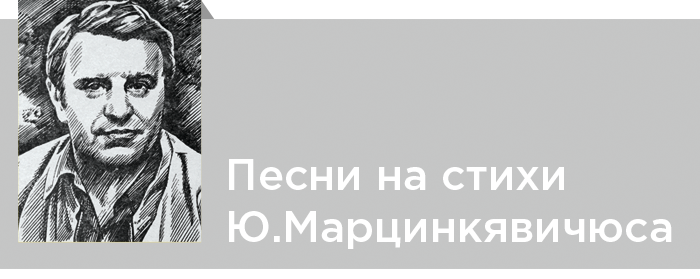Огненный мост
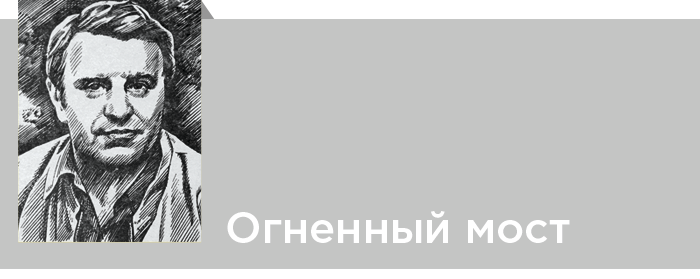
...Мир душе героев!
Мост ведет из тени
К новым поколеньям.
Что окончат бой победой.
Ян Райнис
Где бы ни опускалось солнце за черту горизонта — в горных ли Родопах, в лесах ли Полесья, в прибалтийских ли дюнах,— тихие деревенские вечера, вероятно. чем-то похожи друг на друга. Дымки взвиваются над крышами домов, хозяйки перекликаются между собою, шумно вздыхают коровы, блеют овцы... Неизменным извечным может показаться этот вечерний покой. Разлитая в природе благостность завораживает, обволакивает теплым покрывалом, непроницаемым для другого, лежащего за межевым камнем мира. И мечтается только о том, чтоб «ветер не задул свечу, а эту тихую минуту чтоб замутить никто не смог...».
Но можно ли действительно переплыть на клочке земли, огороженном межевыми знаками, через безбрежный океан современности? И не обманчива ли эта идиллия?
Послушаем, о чем толкуют два человека летним вечером в глухой литовской деревушке Памеркис. Один из них, крестьянин Давнис, занят самым прозаическим делом; режет на чурбаке табак. Другой, бесприютный старик Дзидбрюс, сидит возле него. Говорит Давнис. Он обильно уснащает речь библейскими аллегориями и туманными уподоблениями. Давнис размышляет о том, что в мире схлестнулись два звука: «звук смерти» и «звук жизни»,— что живое бьется с мертвым и еще «неизвестно, кто кого».
И брата брат убьет.
И месть в сердцах надолго воцарится.
Об этом страшная страница
в писании священном есть.
Старик Дзидорюс от ветхозаветной мудрости соседа склонен перейти к житейским делам. Да, звук смерти бьется со звуком жизни: немецкие оккупанты вешают крестьян, не выполнивших продовольственных поставок, и литовской кровью покрыта гитлеровская рейхсмарка. Но люди не простят обид врагу, и если прислушаться, то можно различить, как ветер с востока доносит грохот небывалого сражения. Ну, а что скажет много походивший по свету Дзидорюс своему соседу? Разве только это?
Не слишком ли мы терпеливы,
не слишком ли земля добра,
когда ее леса и нивы
так долго топчет немчура—
Так с первых же строк новой поэмы Ю. Марцинкявичюса «Кровь и пепел» начинают обозначаться два полюса, два отношения к миру и войне, к жизни и свободе. В противоположность Давнису старый Дзидорюс твердо знает «кто кого», он давно сделал свой выбор: под обличьем нищего старца скрывается партизанский связной, убежденный боец за народное счастье.
Медленнее, труднее вырисовывается внутренний мир Мартинаса (или, сокращенно, Марчюса).
Мартинас — один из трех братьев в большой крестьянской семье Давнисов — самый истовый, самый рачительный хозяин. Напалис, его второй брат, вроде бы и деловит, но держится особняком, ведет странный образ жизни: днем отсыпается, ночью пропадает неизвестно где. Пиюс. третий брат,— убогий человек, глухонемой: какой с него толк в крестьянстве?
Совсем иное дело Мартинас: у него и поставки вовремя выполнены (расписка о поставках всегда при нем), и землицы клок есть, и жена вот-вот должна разрешиться первенцем. Война Мартинасу ненавистна, но еще более ему ненавистны разруха и разлад среди людей. Этот разлад, по убеждению Мартинаса, испокон веков порождает войны и нашествия, предательство и злобу, взаимное ожесточение.
Как прилежный прихожанин, Мартинас мечтает о христианском братстве, он славит всечеловеческую любовь, смирение. покорность. Но в том-то и сложность психологии Давниса, что сквозь этот благочестивый елей, сквозь эти затхлые церковные догмы в его душе постоянно пробивается подлинное, живое чувство любви к природе, ко всему животворному. Да это и понятно: Мартинас — житель земли, человек крестьянского корня. Природа говорит его разуму гораздо больше, чем отвлеченные рассуждения, запах свежего хлеба для него лучше любого праздника, а шум колосящейся ржи — торжественнее колокольного звона. Одна, только одна матушка Давнене за этой крестьянской истовостью сына разглядела крохотное и слабое сердце. Безошибочным материнским чутьем она угадала в Мартинасе «какой-то тягостный избыток себя неосознавших сил». Причем эти силы могут быть направлены чужой волей не только на созидание, но и на разрушение, не только на подвиг, но и на страшное злодеяние. И это потому, что он не только труженик, но и собственник.
...А пока Мартинас жаждет тишины и покоя. В разговоре с Дзидорюсом он отвечает за таких же, как он, с предельной откровенностью:
— Не вспахан пар. не сношен луг,
в семье не так уж много рук.
Ты слишком строго не суди нас.
Удивительно точная психологическая деталь! Она полно раскрывает выжидательную позицию Мартинаса, объясняет его патриархальное миросозерцание; ведь, по глубокому убеждению Мартинаса, хлеб на земле должен родиться всегда — бушуют ли войны, сменяются ли правительства, происходят ли революции. Но не менее характерна для Мартинеса заключительная реплика:
— Я тоже на денек-другой
приду, когда управлюсь с сеном...
В канун победы он согласен побыть в партизанских лесах денек-другой, чтобы и при новых, еще неведомых ему порядках с большим правом защищать свой надел, свой двор, свою животину.
Старика Дзидорюса не может обмануть этот нейтрализм соседа, его непротивленчество. Из-за цитат и ссылок на священное писание у Давниса постоянно проглядывает его подлинная вера, его истинная религия — религия «сбережения». Дзндорюс — сам крестьянин, он прошел сквозь все круги хуторского ада, он лицом к лицу столкнулся с жестокой и слепой силой собственничества, он выстоял в этой борьбе, которая для его родных и близких кончилась трагедией. Дзндорюс знает, что ни война, ни грабительские поставки на гитлеровскую армию, ни неизвестность в будущем — нечто не может поколебать этой религии, самой цепкой, самой всесильной для «хозяина». Наоборот, чем труднее жизненные условия, тем ярче разгорается, а людях, подобных Мартинасу. жажда приобретательства.
Свое. свое... Смотрел крестьянин
на то, что называл своим.
Был взгляд издревле затуманен
каким-то дымом.
Этот дым
рассеется еще не скоро...
Образ Мартинаса Давниса не новинка в литературе. Бальзак, Мопассан. Лев Толстой. Чехов. Иван Франко, Андрей Упит, Михаил Шолохов воссоздали в своих произведениях грандиозную панораму крушения старого, патриархального уклада жизни, крушения, казалось бы. незыблемых нравственных устоев перед великой силой «гослодина купона». Они проникли в самые сокровенные тайники внутридеревенских отношений и постарались разобраться в душе человека земли с тяжелой походкой пахаря и трудной думой о куске хлеба насущного. Этот интерес к человеку земли с его запутанной, темной, противоречивой душой у крупнейших художников прошлого и настоящего далеко не случаен. Ведь человечество —это перевернутая пирамида, которая опирается на плечи пахаря или на стальной трактор.— иными словами на землю» (Р. Олдингтон).
Самим же пахарем эта опора рвалась на куски, четвертовалась, была проклятием и спасением, радостью и непосильной маятой. Так продолжалось до тех пор, пока наконец Октябрьская социалистическая революция не утвердила на одной шестой части планеты власть народа и не открыла каждому земледельцу золотую страницу: трудясь на общей земле коллективно, живи на ней коллективно, ибо навечно земля — общенародное достояние.
Плеханов, сравнивая образы немецкого бауэра Траугота Бютнера (из романа фон Поленца «Крестьянин») и русского мужика Ивана Ермолаевича (из очерка Г. Успенского «Крестьянин и крестьянский труд»), находил немало общего в их мировоззрении, в их судьбе. «В таком сходстве — писал Плеханов,— нет ничего удивительного: сходные социальные причины, естественно, порождают сходные психические последствия». Нет ничего удивительного, что в облике Мартинаса Давниса есть немало общего, с одной стороны, с Иваном Ермолаевичем и Бютнером, а с другой — с более близкими его предшественниками — героями романов и повестей Л. Сейфуллиной, А. Неверова, М. Шолохова. Ф. Панферова. В. Смирнова, В. Лациса и других советских писателей — исследователей и знатоков деревенской жизни.
Эта общность крестьянских характеров. таких, как Никита Гурьянов или Кондрат Майданников, определялась общностью социальных причин, их породивших. Здесь нет зеркального подобия, но есть прямая обусловленность психология героев тем образом жизни, который эти герои вели, один — в приволжском селе, другой — в донском хуторе. И Мартинас Давнис — их единокровный брат, с тем только отличием, что перед выбором — с кем идти, за что бороться, во что верить? — он стал с опозданием на четверть века.
Наивны и беспомощны попытки Давниса опереться в многовековом опыте своих предков только на то, что было привито религией, баронской барщиной, собственничеством. Не свободолюбие, а покорность, не гнев, а всепрощение, не волю, а безволие впитал он в себя из привычного для него незыблемого уклада родной деревушки Памеркис. Вот почему уже не столько наивна, сколько эгоистична, жестока его надежда, что «как-нибудь промчится мимо войны неутомимый шквал». Война-то и могла случайным стечением обстоятельств миновать Памеркис, а вот события послевоенных лет миновать самого Мартинаса, его двора никак не могли.
Вряд ли стоило бы выделять из всей поэмы, относящейся к лирико-философскому жанру, только один этот образ, если бы у самого автора не было столь сложно, столь противоречиво отношение к своему герою. А в тех откликах на поэму «Кровь и пепел», которые появились в периодической печати, наметилась явная тенденция упростить, схематизировать и образ Марчюса и ту полемику, которую с его философией, с его миросозерцанием ведет автор. Нет, Марчюс Давнис вовсе не законченный злодей. Он бывает добр и благожелателен к людям, он любит свою деревню, свои поля и леса, он хороший семьянин. Но это все постольку, поскольку не затрагивается самое главное в нем—вопрос о земле и собственности. Как только эта, наиболее отзывчивая струна начинает звучать в Давнисе, «избыток неосознанных сил» превращается в страшную силу, которая легко может толкнуть его на преступление, на ложь, на предательство. И толкнула Мартинаса и сделала из него жалкое подобие человека, виновника гибели своих односельчан.
Со всей силой раскрывается эпическое мастерство Ю. Марцинкявичюса в сцене приезда Марчюса в город, показывающей, как страх за себя, за свою семью постепенно приводит Марчюса Давниса к прямому предательству. Он выдает тайну Рудницкой пущи, где на его глазах были убиты партизанами два немецких мотоциклиста, выдает невольно, выдает в коротком разговоре с местным фашистом Пирагасом. И когда его обмолвка стала фактом, Марчюс с особой, лихорадочной поспешностью вчитывается в последнюю строку гитлеровского объявления: «иль акт на собственность вручат».
Напряжение повествования так велико, внутренняя борьба, происходящая в Давнисе, так очевидна, что автор сам решает вмешаться в ход событий:
Очнись. Давнис, и задави
змею, возьми ее за горло,
покамест жала не простерла
и яда нет в твоей крови.
Но ничто уже не может остановить Марчюса на его роковом пути, ибо только последняя строка, только обещание нового земельного надела стоит у него перед глазами. Прав В. Чалмаев. утверждая в интересной статье «Огонь под пеплом», опубликованной в «Комсомольской правде», что «судный день Памеркиса, собственно, и начался не с сжигания села, а с «грехопадения» Мартинаса».
Не будь в поэме столь значительными образы и диалоги героев, авторские отступления. весь историко-социальный фон, мы бы не видели жалкой ослепленности Марчюса, его тщетных усилий сохранить «независимость» хозяина-землевладельца. Ведь мечта Марчюса—любой ценой приумножить свой земельный надел—была обречена ходом истории, действиями литовских партизан, боевыми операциями героической Советской Армии Тем страшнее его самооправдания, его бессмысленные попытки успокоить себя тем, что теперь брат Напалис не будет тянуться к его, Марчюса, собственной земле.
«...Деревни подлежат сожжению...» Отныне нас ни на одну минуту не покидает тревога за судьбу деревни Памеркис. Правда, мы еще очень мало знаем о ней, о ее жителях. Вот почему поэт и предпринимает смелый сюжетный ход. Он возвращает нас в деревню, где за эти роковые часы ничто не изменилось: все так же вьются дымки над крышами, идут женщины полоскать белье, пахарь покрикивает на лошадь, мальчишки мастерят ветряную мельницу. Но теперь голос поэта звучит с трудно сдерживаемым волнением. Уже и в помине нет той идилличности, той библейской величавости пейзажа, которыми поначалу отличались описания Памеркиса. Кажется, что на все эти озабоченные, суровые, добрые, спокойные лица уже лег отблеск кровавого пожара. Волнение поэта прорывается страстным монологом — обращением к тому периоду истории родного народа, когда чужеземные завоеватели истребляли на своем пути древние балтийские общины. селения, сбивали людей
О Неман! Воды пресные свои
ты в ненависть святую переплавь.
когда они придут к твоим пределам.
свой крест и меч на берег положив,
опустятся устало на колени,
чтоб кровью перепачканные руки
в воде ополоснуть.
Вскипит волна,
из ненависти слитая.
По локоть
сожги им руки ненавистью этой,
чтоб не смогли держать они отныне
крест — в левой. В правой — меч.
О Неман! Неман!
Пусть все. что ты нам, родина, дала,
в месть превратится.
Ненависть и месть!
Чем ближе трагическая развязка повествования. тем чаще поэт от своего имени обращается к читателям, тем обнаженнее его темперамент трибуна и борца. Кажется, что его голос вот-вот сорвется на крик, но поэт находит в себе мужество вновь вернуться к эпической манере рассказа, вновь задержать наше внимание то на старушке Давнене, воплощающей в себе материнскую ласку и заботу, то на девушке — невесте Юрге, которой сквозь сон слышатся старинные свадебные напевы, протяжные дзукийские песни. А цепь немецких карателей уже кольцом сжимает селение. Вот солдаты останавливают пахаря, и тот. бросив плуг в борозде, следует их приказу, вот они с луговины гонят косца, вот фашист пнул ребенка, «как жаворонок, с кочки подскочил мальчишка», вот «встали женщины В дверях, как при дороге часовенки-заступницы стоят...».
Кадры медленно следуют один за другим, но за этой медлительностью скрывается предельное напряжение, обостренное внимание поэта к любой мелочи, к любому штриху в жизни деревни, которой суждено так страшно погибнуть.
Была деревня, и деревни нет.
Ее сожгли живьем — со всеми,
кто должен жить,
кто должен умереть,
и с теми, кто на свет
родиться должен.
Что-то в этих строчках напоминает бесстрастный стиль древнейших хроник. Эта бесстрастность — от затаенной боли. Поэт слышит крики и проклятия заживо сжигаемых людей, его глаза видят как слизывает пламя льняные одежды с плеч матушки Давнене, как рвутся гранаты в пылающем сарае, переполненном людьми...
Неправда!
Есть деревня эта.
Есть!
Она горит и по сей день,
сегодня —
и будет до тех пор гореть, пока
те, кто поджег деревню эту, живы.
Так раскрывается в поэме «Кровь и пепел» вторая тема — тема возмездия. Поэт вступает в единоборство с силами реакции и расового мракобесия, с носителями гитлеровских идей о мировом господстве и реванше, которые нашли себе приют в берегах Рейна. Он взывает к бдительности родного народа: он хочет, чтобы зерна ненависти к рабству, к покорности перед чужеземцами были посеяны и взошли в грядущих поколениях:
...Сей же. человек, свой каждодневный,
насущный хлеб, сей ненависть свою.
Сей. потому что будут голодны
оставшиеся жить.
Они присмотрят
заботливо и зорко за посевом
и сложат урожай в свои сердца.
Этот эмоциональный гиперболизм понятен у поэта, родина которого на протяжении столетий не раз подвергалась самым опустошительным, самым кровавым нашествиям западных завоевателей. Он не желает повторения ни Орадура. ни Лидице. ни Панеряя. А для этого наши дети должны знать не только слово «любовь», но и слово «ненависть»:
О. мне понятно, как ребенку трудно
его осмыслить и произнести.
И все-таки и несмотря на то,
спешите обучить ему детей,
пока еще принадлежит вам время,
пока еще слова послушны вам.
В страстном воззвании к ненависти поэт не допускает ни единой шовинистической ноты: он знает, что в дни войны в Литве были «две Литвы, и на Литву два разных взгляда»: одна Литва — это родина Напалиса и Дзндорюса. матушки Давнене и самого поэта, другая — фашиста Пирагаса и старосты Куканки, ксендзов и крупных землевладельцев. Вот с этой второй Литвой поэт ведет столь же непримиримую, столь же ожесточенную борьбу, как и с ее иностранными покровителями. На их совести в равной степени, как и на совести немецких оккупантов, лежит сожжение Памеркиса. Поэтому очевидно, что ложный, обманчивый свет в башнях собственничества должен, обязательно должен быть потушен, и только тогда земля научит человека величию и животворящая любовь восторжествует во всем мире.
Как мы видим, в поэме «Кровь и пепел» четкая сюжетная основа, выпукло и ярко разработанные характеры. В то же время концентрация реального материала достигает такой силы, что иные персонажи и ситуации перерастают в образы-символы.
Вековая разобщенность деревенских жителей, их индивидуализм подчеркиваются поэтом не только в прямых авторских репликах и отступлениях, но даже «обычным» сельским пейзажем:
Вставало солнце над чащобой.
Пылило стадо. Шла косьба
вовсю. И каждая труба
хвалила свой дымок — особый.
Или взять образ старика Раполаса. Набожный, тихий крестьянин, он, чтобы умилостивить всевышнего, вырезал из дерева мадонну с младенцем на руках и установил крест на сельском перепутье. Но односельчане разглядели в искусном творении Раполаса облик его несчастной жены Давнене, родившей глухонемого Пиюса. И когда каратели сжигали деревню. только этот придорожный крест решили сохранить как символ «истинного германизма» в Прибалтике.
...Пылает деревня Памеркис. Лишь теперь у Раполаса Давниса наступило прозрение, что и он. старый столяр, «людей своими же руками учил терпеть и не сопротивляться»:
Он вырезал из дерева рабов.
О. если бы хоть раз его десница
призыв к борьбе дерзнула воплотить!
В отчаянии Раполас взваливает крест на спину и бежит к полыхающему сараю.
Крест был сухой, но пригибал к земле —
да разве распрямлять людей он годен?!
Он Раполаса гнул к земле всегда.
В пламен« сгорает крест, ненавистный теперь старику, сгорает и он сам.
Трудно не ощутить в этой драматической сцене высокой символики. Но поэт отнюдь не ограничивается только одним этим эпизодом.
Последние главы поэмы (кстати сказать, отлично переведенной Александром Межировым) являются ключом к тому подзаголовку, который имеет произведение Марцинкявичюса в целом, — «героическая поэма». Да. это героическая поэма. героический сказ о литовцах, простых землеробах, их женах, матерях, детях, смертью утверждающих мужество и непреклонность: они гибнут в пламени, но не сдаются врагу. Напалис смело идет под пули карателей, чтобы спасти своих односельчан. Юрга бросается в огонь: она не в силах видеть гибель любимого. Матушка Давнене неколебимо стоит посреди пылающей хаты. Даже Мартинас, вернувшийся к дымящему пепелищу, находит в себе запоздалое мужество собственными руками задушить предателя Пирагаса.
Так реалистически развивающиеся характеры предстают перед нами в новом ореоле — в ореоле не мучеников, а героев, не страдальцев, а победителей. Это относится к тем героям, которые в отличие от Мартинеса не запятнали себя ни корыстью, ни стяжательством, ни слабодушием. Оки оказались верны свободолюбивому духу своего народа, верны своей родине — Литве.
Героическое прошлое и героическое настоящее постоянно перекликаются в поэме «Кровь и пепел».
Крестоносцы шли на древнюю Литву с распятием и мечом. Через столетия рыцарская «свинья» модернизировалась в танковые колонны Гудериана, а крест превратился в зловещую свастику. Идет по Литве «позор земли — потомство крестоносцев». Испуганный Мартинас Давнис застыл «на кресте дорог» — в Рудницкой пуще, а над ним немецкий самолет «на крыльях крестики могил в глубокий тыл понес кому-то...».
Эта символическая образность поэмы «Кровь и пепел» не только не противоречит ее большому реалистическому содержанию, но, наоборот, вытекает из этого содержания, является высшей формой подлинной поэтичности поэмы. Социалистический реализм в поэзии,— писал А. А. Фадеев,— вполне допускает форму «романтическую» и даже «символическую — лишь бы за этим стояла правда (жизни)». Слово «символическую» Фадеев закавычил, чтобы отделить его содержание от той историко-литературной традиции, которая связывает его с поэзией символизма начала XX века. Само собой очевидно, что здесь речь идет совсем о другом — о реалистической многозначности образа, о его глубине и значительности. Глухонемой Пиюс, видя страшную гибель отца Ралоласа, закричал («был этот крик ужасен. Никогда такого крика уши человека не слышали еще...»). Здесь поэт подымается уже до высот народного эпоса, народной драмы, которой и присуща подобная символика.
Вообще народно-поэтические корни поэмы «Кровь и пепел» видны и в характерах героев и в стиле повествования. Особенная, самобытная прелесть придается образу девушки Юрги тем. что лучшие краски, лучшие мотивы из литовских дайн взял Марцинкявичюс для ее изображения.
В последнее время в советской поэзии появился ряд произведений, которые являют собою пример высокого сочетания «реалистического» с «идеальным». Здесь я напомню определение национальной драмы, данное Энгельсом в знаменитом письме к Лассалю: драма требует, писал Энгельс, «за идеальным не забывать реалистического, за Шиллером — Шекспира». Обращаясь к опыту таких поэтов, как Ю. Марцинкявичюс, Б. Ручьев, Вас. Федоров, Е. Исаев, К. Кулиев и другие, я хочу видеть в понятиях «идеальное» и «реалистическое», относящихся к национальной драме, к высокой, героической поэзии, совершенно определенное содержание: это, с одной стороны. романтическая страстность, возвышенность, с другой стороны, реалистическая основа, без какого-либо намека на ту абстрактную, сугубо литературную символику, к которой так охотно прибегают эпигонствующие версификаторы.
В произведениях Б. Ручьев, например, возникает не только общий реалистический фон индустриальной стройки начала тридцатых годов, многие чисто прозаические детали Магнитостроя, но и обобщенные образы-символы. У Е. Исаева мы видим не только тщательное описание заброшенного гитлеровского стрельбища, но и символические образы «мертвой» и «живой» земли, «пули», «огня», «маленькой женщины-Памяти». То же самое и у Вас. Федорова в «Проданной Венере», где картина Тициана «Венера» и деревенская девушка Ната Граева — это образы-аллегории.
Поэма «Кровь и пепел» родилась на гребне этого общего подъема современной советской поэзии. Новое произведение Ю. Марцинкявичюса в буквальном смысле слова выстрадано поэтом. Автор верит в будущее своего народа, он знает, что его современники, пройдя по огненному мосту великих страданий, будут всегда хранить в памяти подвиги народных героев и проклинать тех, чьей жадности и злобе не было предела.
Горя, о сердце! Никогда не гасни.
чтоб не сжигали никогда людей.
Огненный мост. Валерий Дементьев // Октябрь. - 1964. - № 10. - С. 201-206