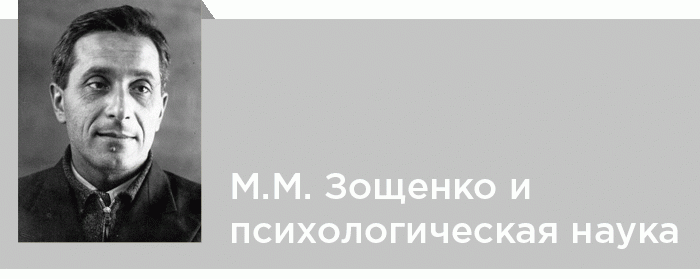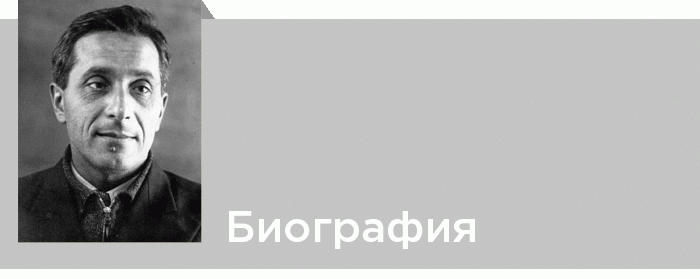Эффект отстранённости и сострадания (Сатирическая новеллистика М. Зощенко)
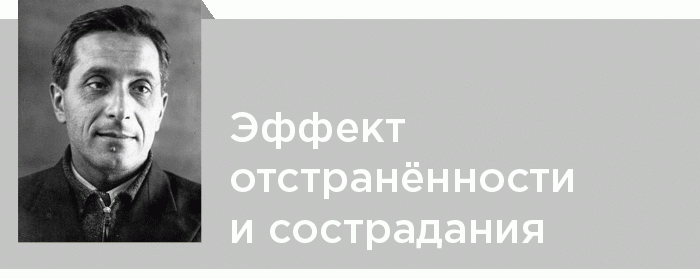
Н. Попова
Колридж и еще целый сонм великих прошли через мучительные попытки уйти от своего прошлого. «Явно все они повсюду возили с собой самого себя и ничего не сделали для того, чтобы изменить это и предотвратить душевную боль, которая развивалась при крайне ненормальном течении их жизни...».
В научно-критической литературе, посвященной творчеству М. Зощенко, содержится немало верных и точных соображений по проблеме авторского лица и авторской маски. И тем не менее сам механизм их сложного взаимодействия, его отличительные особенности, на мой взгляд, раскрыты в ней явно недостаточно. Я вижу свою задачу в том, чтобы на примере анализа текстов нескольких рассказов писателя, датированных 20-ми годами, попытаться более подробно проследить за взаимоотношениями, складывающимися в процессе повествования между героем-рассказчиком и подлинным автором новелл.
Принято считать, что театр требует от актера полного перевоплощения. Некоторые критики настаивают на том, что, подобно режиссеру, который должен умереть в актере, актер в свою очередь должен полностью растворить свое «я» в создаваемом характере персонажа. Другими словами, зритель должен забыть об исполнителе и видеть только изображаемого героя. Б. Брехт, однако, полагал, что «с актера надо снять бремя полного перевоплощения в изображаемый персонаж. В игру актера нужно было как-то ввести некоторую отдаленность от изображаемого им персонажа. Актер должен получить возможность критиковать его». Примерно по таким же законам строит авторские отношения с образом повествователя и Зощенко.
Писатель по существу не использует в сатирическом творчестве принцип прямой авторской оценки. Он предпочитает надеть маску распоясавшегося и наглого обывателя. Получается, таким образом, что о каком-то случае, жизненном казусе рассказывает не сам автор, а «подставной» рассказчик — человек определенного социального типа. Как представитель обывательского мира он привносит в описываемое событие соответствующее видение действительности, понимание жизни. В результате сатира Зощенко становится многомерной, так сказать, многослойной. С одной стороны, сатирические стрелы автора направлены в персонажей, поведение которых охватывается сюжетом, а с другой — в явно сатирической функции выступает и сам рассказчик. В то же время Зощенко вкладывает в образ повествователя частичку не чужой, не придуманной, а своей собственной души. Поэтому временами возникает иллюзия некоторой сопричастности автора с линией поведения и отдельными рассуждениями рассказчика.
Зощенковский герой-рассказчик — это образ со многими секретами. Он, без сомнения, относится к категории отрицательных персонажей. Но отрицательные персонажи бывают разные: некоторые из них, раскрывая душу, могут вызвать у читателя некоторое сочувствие и даже сострадание. Они могут, не смотря ни на что, оставаться смешными и милыми людьми. Зощенковский же рассказчик — и это весьма существенно — вызывает к себе одновременно и отвращение и жалость.
Писатель нигде открыто не развенчивает своего повествователя. Больше того, он пишет даже как-будто с условной долей сочувствия. Но сочувствие это таково, что каждая новая деталь заставляет ощутить крайнюю примитивность строя мыслей и чувств персонажа. Так, рассказ «Мещанский уклон» построен в виде своеобразной защиты героя рассказа. Но чем обстоятельнее рассказчик описывает самого Васю Растопыркина и то, что с ним произошло, чем активнее становится на его сторону, тем все больше и больше обнаруживается абсурдность поведения и того и другого.
«Василия Тарасовича Растопыркина — Васю Растопыркина, этого чистого пролетария, беспартийного черт знает с какого года — выкинули с трамвайной площадки».
Рабочего человека выгоняют из трамвая, что вызывает резкое негодование рассказчика. Однако ироничная авторская интонация сразу же заставляет усомниться в правомерности этого негодования, хотя читатель с недостаточно развитым эстетическим вкусом поначалу может поддаться настроению рассказчика.
«Конечно, слов нет, одет был Василий Тарасович не во фраке. Ему, знаете, нету времени фраки и манжетки на грудь надевать. Он, может, в пять часов шабашит и сразу домой прет. Он, может, маляр. Он, может, действительно, как собака грязный едет. Может, краски и другие предметы ему льются на костюм во время профессии. Может, он от этого морально устает и ходить пешком ему трудно».
Растопыркин пачкает всех, проливает на кого-то краску, и при этом непоколебимо уверен в своей правоте. Но под сатирическим обстрелом автора оказываются не только и не столько Вася Растопыркин, сколько прежде всего сам рассказчик, поминутно демонстрирующий свою глупость и примитивный взгляд на мир.
Возникает вопрос: кому адресована в первую очередь сатира Зощенко? Людям, подобным его герою? Вряд ли. Они все равно не узнают себя ни в Васе Растопыркине, ни в рассказчике. А если и узнают, то вполне вероятно не согласятся с авторским к ним отношением. Осознать его в полной мере может только читатель, так сказать, с прямо противоположной социальной и духовной структурой, на которого, собственно, и делает ставку писатель.
Далеко не все понимали, что Зощенко в высшей степени иронично относится к своему рассказчику; не только не разделяет его взглядов и стремлений, а, наоборот, отрицает этот тип мироощущения. В его сознании существует иной, недоступный пониманию героя-обывателя мир большой жизни. Наличие такого мира предполагается и в нравственном, и в интеллектуальном багаже читателя, благодаря чему только и можно уловить зощенковскую иронию. Но в целом позиция автора не сводится только к ироничности и осмеянию зла. Она шире и глубже.
В новеллах Зощенко есть нечто такое, что выделяет его среди писателей-юмористов: таящаяся внутри смеха печаль, не только ироничная насмешка над ничтожными и жалкими людьми, но и некоторое сострадание к ним. Этот «смех сквозь слезы» выводит Зощенко к высоким рубежам реалистической, гуманистической прозы. Повествование у него строится таким образом, что персонажи его новелл (включая и образ рассказчика) воспринимаются не только как носители социального и нравственного уродства, но одновременно и как жертвы каких-то сложных исторических обстоятельств, которые оказываются сильнее них. Определенные тенденции реальной жизни как бы перевели их из одного качества в другое; из «маленьких людей», достойных всяческого сочувствия, превратили в мелких людишек, способных вызвать лишь презрительную усмешку.
Так, у Зощенко ведется постоянная полемика с языковыми штампами, все более и более набирающими вес и силу. Образ туповатого рассказчика и тут помогает автору. Дело в том, что монолог повествователя, по отношению к которому, как уже выяснено, есть и дистанция, и ирония со стороны автора, пестрит расхожими выражениями и характерными штампами времени. И происходит интересная вещь: писательская ирония по отношению к герою переносится в сферу языка. Другими словами, сомнительная репутация говорящего бросает тень на выражения, которые Зощенко заставляет постоянно, к месту и не к месту употреблять его в своей речи: «Всегда я симпатизировал центральным убеждениям. Даже вот когда в эпоху военного коммунизма нэп вводили, я не протестовал. Нэп так нэп. Вам видней».
Зощенко очень часто предоставляет своим персонажам возможности для высказываний по самым различным поводам. Залихватский тон разглагольствований рассказчика и скрытый авторский комментарий создают ту самую дистанцию, благодаря которой и достигается эффект сатирического изображения: «...между прочим, при введении нэпа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены.
И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться — сиди, в чем пришел. Это было достижение».
У Зощенко вообще очень много «рассуждающих» героев, объясняющих свое житье-бытье. В значительной степени этими качествами наделен рассказчик, который иногда рассуждает очень колоритно о серьезных проблемах. Начав «философствовать» о культуре, он продолжает: «А вопрос культуры — это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздевания в театре. Конечно, слов нету, без пальто публика выгодно отличается — красивей и элегантней. Но, что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком».
Конечно, подобные разглагольствования ничего общего не имеют с настоящими философскими раздумьями, с точкой зрения автора и, как надеется писатель, читателя. Но «резервируя» в ходе повествования право на свою, скрытую в глубине сюжета точку зрения, Зощенко в то же время не полностью дистанцируется от своих персонажей и особенно от рассказчика. Несомненно, что какие-то важные для него мысли автор вкладывает в уста своего героя. В результате возникает эффект сопричастности с судьбами персонажей, которые одновременно высмеиваются автором.
Одной из существеннейших черт поэтики Зощенко был антиэстетизм — выявление в жизни низменного, неприглядного и художественно-заостренное их изображение. Отсюда и стремление к опрощению речи героев. Но язык персонажей внешне обманчиво простой, непритязательный, на самом деле необыкновенно сложен. Так, речь рассказчика легко распадается на отдельные лексические единицы, принадлежащие к различным стилевым потокам. В тексте, построенном по далеким от сказового повествования законам, каждое из таких высказываний должно принадлежать абсолютно разным, непохожим друг на друга персонажам, и, более того, должно существовать в обособленных друг от друга ситуациях и контекстах. Именно поэтому рассказчик, воспринимаемый вначале как вполне определенный человек, как правило малограмотный, нагловатый и смешной, при более внимательном чтении начинает казаться как бы состоящим сразу из нескольких повествователей. Но эти его облики, как выясняется, благополучно уживаются в одном человеке. Само собой разумеется, что членение это чисто условное, на самом деле, перед нами образ одного и того же человека с совершенно четкой логикой поступков и высказываний, которая, однако, не всегда угадывается читателем. Эта доминанта, неизменно присутствующая в образе героя, и заставляет воспринимать его весьма пеструю в стилистическом отношении речь как нечто единое, цельное.
Интересно, что почти несовместимые, даже взаимоисключающие лексические ряды могут существовать совсем близко друг от друга, они могут соседствовать буквально в одной фразе или реплике персонажа. Это позволяет автору свободно маневрировать текстом, предоставляет возможность резко, порой неожиданно повернуть повествование в сторону любого из многочисленных стилевых потоков, присутствующих в монологе героя. В то же время это дает право говорить о том, что образ зощенковского повествователя намного сложнее и многограннее, чем принято считать.
В качестве иллюстрации к сказанному может быть взято практически любое произведение, например, «Кузница здоровья» — одно из наиболее характерных для Зощенко 20-х годов. Начало новеллы настраивает нас сперва почти на лирический лад.
«Крым — это форменная жемчужина. Оттуда народ приезжает — только диву даешься. То есть поедет туда какой-нибудь дряхлый интеллигентишка, а назад приезжает — и не узнать его. Карточку раздуло. И вообще масса бодрости, миросозерцания.
Одним словом, Крым — это определенно кузница здоровья». На первый взгляд главное в этом отрывке — авторское восхищение благодатностью южного климата. Но в тексте есть «нечто», благодаря «которому» возникает атмосфера пародийности, иронии, тонкой насмешки.
«Крым — это форменная жемчужина». И «Крым — это определенно кузница здоровья». Если бы не сомнительные по употреблению слова «форменная» и «определенно», начальную и конечную фразы отрывка логично было бы адресовать к какой-то разновидности официального, может быть, газетного текста. Правомерно утверждать, что оба предложения выдержаны в рамках одной стилевой манеры — они как бы взяты из языка официальных документов. И писатель, не выходя заграницы этого ряда, всего двумя не к месту вставленными словами снижает пафос собственного утверждения.
«Оттуда народ приезжает — только диву даешься. То есть поедет туда какой-нибудь дряхлый интеллигентишка...». Это продолжение никак не укладывается в заданную предыдущей фразой тональность. Оно больше похоже на выдержку из обычного повседневного разговора. Происходит резкая смена стилевых потоков.
Далее идет выражение «карточку раздуло», вызывающее уже новые ассоциации: оно, конечно же, может принадлежать только необразованному, некультурному человеку; это разновидность жаргона.
Уникальную фразу про «массу бодрости, миросозерцания» вряд ли произнесет просто необразованный человек, этакий невежа. Вероятнее всего она принадлежит малограмотной личности, нахватавшейся заезженных языковых клише и употребляющей их к месту и не к месту.
Таким образом, в одном коротеньком кусочке текста, подряд, друг за другом проходят четыре различных, казалось бы, никак между собой не соотнесенных речевых системы. О. Мандельштам справедливо заметил, что у Зощенко «настоящая проза — разнобой, разлад, многоголосие, контрапункт». Каждый стилевой поток — это не просто повествование от чьего-то лица, он имеет свой юмор, неизменно действующий как в его пределах, так и на протяжении всего повествования. Нарочитая безграмотность, комическая дисгармония языка объединяет все эти направления, заставляя воспринимать произведение как единое целое. Эта доминанта скрепляет и образ повествователя, соединяя его многочисленные ипостаси пусть в крайне непривлекательное, но одно лицо.
Интересно, что в большинстве случаев языковые казусы в речи рассказчика скрыты формальной правильностью высказывания. Действительно, чем правильнее кажется на первый взгляд построение фразы, тем сомнительнее ее словесный материал: «Тут, спасибо, наша уборщица Нюша женский вопрос на рассмотрение вносит.
— Раз, говорит, такое международное положение и вообще труба, то, говорит, можно для примеру, уборную не отапливать. Чего там зря поленья перегонять? Не в гостиной!»
Кроме смысловых расхождений обращает на себя внимание удивительная способность писателя ставить точку, подводить своеобразный словесный итог написанному. Делает он это сугубо «по-зощенковски». Сказав, что в целях экономии можно не отапливать уборную, автор вроде бы завершил эту странную мысль, сделал вывод, поставил смысловую точку. Тем не менее он добавляет: «Чего там зря поленья перегонять?». Да еще и конкретизирует: «Не в гостиной!». Сатирик как бы дозирует информацию, с каждым разом предлагая читателю все больше и больше курьезного и смешного. Нагнетание бессмыслицы идет по витку, по нарастающей, пока не достигает полного абсурда.
Безусловно, странности в поведении героя и его малограмотный мещанский жаргон вызывают у автора печальную усмешку. Несомненно и то, что зона этой иронии выходит далеко за пределы поведения героев. Она захватывает многие, прямо не изображенные обстоятельства их жизни. Писатель иронизирует над некоторыми установлениями, обычаями нового времени, новой эпохи. Они столь прочно вошли в стихию народной жизни, что приобрели характер привычки. Личное в человеке не только отодвинуто на второй план общегосударственным, а, по сути дела, последнее почти выдавило из его духовного мира ощущение, так сказать, суверенности своего «я». Что же эпоха оставила человеку от этого «я»? Ответ Зощенко неутешителен.
В изображении Зощенко мир предстает не только невероятно примитивным и эгоистичным — управляющие им законы во многом абсурдны. Писатель видит в жизни немало гротескного и страдает от этого «театра абсурда». Но поразительная особенность его художественного таланта состоит в том, что где-то в глубине него таится гуманистическая надежда, что все в мире может перемениться.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1995. – № 1. – С. 21-24.
Произведения
Критика