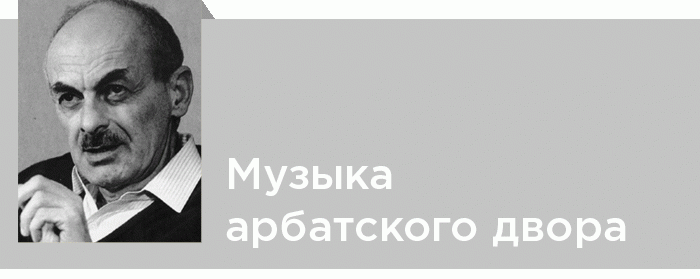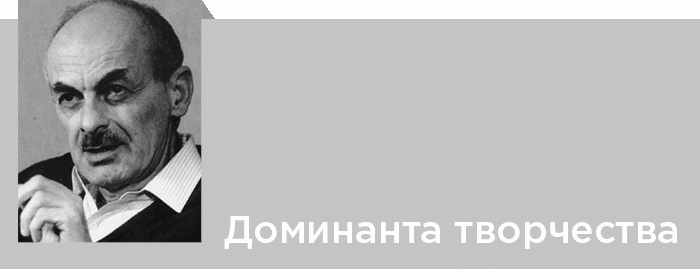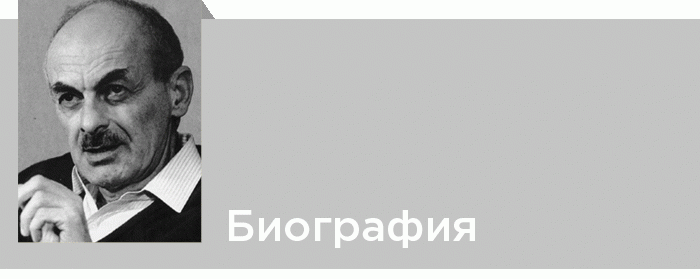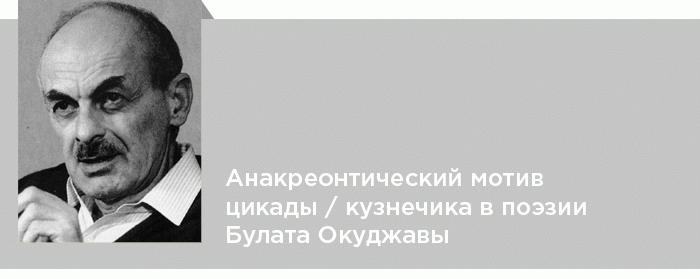«Фантазии» Булата Окуджавы (К вопросу о музыкальных формах в лирическом творчестве)
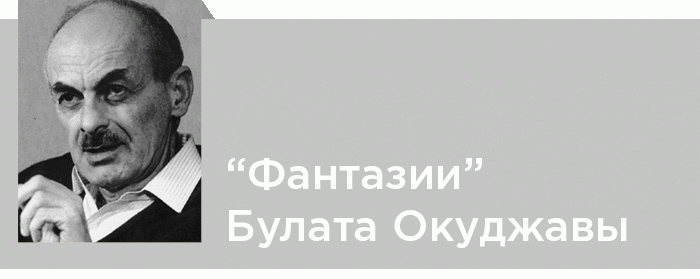
С.С. Бойко
Среди многочисленных публикаций, содержащих имя Булата Окуджавы, удельный вес научных филологических работ невелик. Думается, одним из источников этого парадокса стала неочевидность жанровой специфики поэзии Окуджавы, препятствующая верному пониманию места произведений в литературном процессе. Например, А. Стругацкий в интервью говорил: «Но вот не знаю, куда отнести наших бардов — а без них (Окуджавы, Высоцкого, Кима. — С.Б.) я обходиться не могу». Писатель искренне недоумевал, можно ли причислить к поэзии любимые свои произведения.
Филология решила этот вопрос в целом, отметив, что у Окуджавы «есть «просто стихотворения» и «стихотворения-песни», причем и те и другие в равной мере принадлежат профессиональной поэзии, письменной литературе», а жанр их — «<...> не просто элегическая, пейзажная, медитативная лирика, но — особая, эмоционально- или, точнее, музыкально-суггестивная, где мысль, чувство, ассоциация причудливо взаимодействуют, рождая многослойное, «стереофоническое» переживание».
Ряд стихотворений Окуджавы объединен авторским определением — фантазия. Это «Дорожная фантазия» (175), «Парижская фантазия» (382), «Дунайская фантазия» (433), «Калужская фантазия» (435), «Японская фантазия» (517), «Турецкая фантазия» (520), «Американская фантазия» (537), «Подмосковная фантазия» (557). Согласно авторской хронологии, Дорожная относится к шестидесятым годам, Подмосковная — к девяностым, остальные связаны с восьмидесятыми.
Рефлексия филологически образованного поэта недаром подсказала ему особое жанровое определение для этих произведений. Фантазия не зафиксирована литературоведческими словарями. Но она есть в словаре музыкальных терминов в трех значениях, два из которых привлекают внимание: «1. Инструментальная пьеса своеобразной композиции, не совпадающей с отстоявшимися формами построения муз. произведений. <...> 2. Инструментальная пьеса, отличающаяся фантастическим, причудливым характером музыки». В фантазиях Окуджавы мы найдем «своеобразие композиции», «несовпадение с отстоявшимися формами», «фантастичность», «причудливость». Поэт в точности последовал совету Анны Ахматовой — «подслушать у музыки что-то и выдать шутя за свое».
Герой «Дорожной фантазии» видит Сибирь (по сопкам, глухие реки) и, фантазируя, домысливает ее облик (стук тигриных лап, крик степи о человеке, на океанском бреге — краб), ее историю (переселенческой телеги / скрип, и коней усталых храп), людей на фоне хода времен: «А сторож-то! Со сторожихой / с семидесятилетней, тихой! / <...>/ пока им дышится, пока / им любопытны сны и толки<...> « — в грезах историческое время сменяется «настоящим продолженным». Звучит и лейтмотивное слово: «С фантазиями нету сладу», — оно означает игру воображения. Фантазия как жанр здесь лишь проба пера. Созерцая Сибирь «с дорожных облаков своих», герой как бы выключен из хода событий, и его портрет (случайный Бог таксомоторный, / невыспавшийся, тощий, черный), как и пейзаж, наблюдаемый его глазами, — это общие места, формирующие рамочную композицию фантазии, а не значимый второй мотив.
Богатый пейзажно-изобразительный ряд есть и в «Дунайской фантазии»:
Там побеленные стены и фундаменты цветные, а по стенам плющ клубится для оправы.
Дунайская выделяется среди фантазий причудливо-сложным построением художественного времени. В ее начале — «Как бы мне сейчас хотелось в Вилкове вдруг очутиться!» — пейзаж мечты. В четвертой строфе — «Там опять для нас с тобою дебаркадер домом служит» — мечта оказывается воспоминанием, условное — прошедшим. Последняя строфа начинается словами: «Как бы мне сейчас хотелось ускользнуть туда, в начало». Но не здесь начало художественного времени героя, который некогда сгодился «для победы, для атаки», подобно сыновьям Вилкова. Сегодняшний день героя (как и «позавчерашние» победы и атаки) вовсе лишен красок изобразительности, и ему хочется «от печалей отшутиться: / ими жизнь моя отравлена без меры». Пластические образы Вилкова передают тему счастья, былого и чаемого. А «бесплотная» жизнь звучит горестной темой.
В других фантазиях-путешествиях Окуджавы элементам пейзажной изобразительности намеренно отведена незначительная роль. Во-первых, вместо «экзотики» описаны несвоеобразные черты пейзажа. О городе Монпелье говорится, что он «прекрасный» и что «здесь жара такая, что хочется ходить в белье»; о «граде Истамбуле» — что в нем оживленное уличное движение; в Японии «то брызнет дождь, а то жара, а то туман». Во-вторых, количество изобразительных деталей минимально: по одной-две на стихотворение. Это «случайная чайхана» и «чай густой, что пахнет медом» в Турции; «Гиндза золотая» в Японии; «ресторанчик тесный» в Париже; «витрины бьют в глаза» в Америке. Такие детали «продиктованы» туристом-верхоглядом, который не постиг душу страны.
Вместо достопримечательностей показаны действия, движения, жесты людей. В парижском ресторане пребывают, «петербургскою ветхой салфеткой прикрывая от пятен колени, / розу красную в лацкан вонзая, скатерть белую с хрустом стеля»; в Вилкове «на пристани танцуют жок, а может быть, сиртаки: / сыновей своих в солдаты провожают»; Япония «предстала / спеша, усердствуя, молясь, и плача, и маня». Таковы и пластические описания живых существ: в Вилкове «лежат на солнцепеке безопасные, цепные, / показные, пожилые волкодавы»; «у парижского спаниеля <...> набекрень паричок рыжеватый»; в Подмосковье ворон «белое облако рассекает крылом небрежным». В этих картинах пространство одухотворено, и читатель видит его душу.
По сравнению с лирическим путешествием, каким оно предстало в Дорожной и в Дунайской, мы наблюдаем как бы минус-прием в Парижской, Американской, Турецкой, Японской фантазиях. Их названия тоже построены на топонимах, их сюжет тоже путешествие, но повествовательно-изобразительное начало уходит на второй план, обнажая «несовпадения с отстоявшимися формами», мотивирующие определение фантазии.
«Парижская фантазия» строится следующим образом. Первая строфа —портрет короля-спаниеля (причудливый образ), «не погибшего на эшафоте, а достигшего славы и лени», — так в его истории отвергнута смерть. Вторая строфа — собирательный портрет человека:
На бульваре Распай, как обычно, господин Доминик у руля.
И в его ресторанчике тесном заправляют полдневные тени, петербургскою ветхой салфеткой прикрывая от пятен колени, розу красную в лацкан вонзая, скатерть белую с хрустом стеля.
Три деепричастия (прикрывая, вонзая, стеля), превращая движения в обстоятельства, делают картину вневременной. Жесты посетителей и служителей ресторана, французов и русских, рядоположны, и не провести границу меж ними. То же происходит с жизненными ролями человека: тени, чудом нашедшие место в мире, способны заправлять в ресторанчике, где у руля стоит хозяин. В собирательности портрета — единство разных людских судеб, смешение несхожих социальных ролей.
Третий куплет — о горней силе. Она многоименная: «Бог, Природа, Судьба, Провиденье<...> «, — вечная и милостивая к человеку. Последняя строфа — «Если есть еще позднее слово, пусть замолвят его обо мне» раскрывает давнюю молитву поэта: «И не забудь про меня». Он просит:
<...> о минуте возвышенной пробы,
где возможны, конечно, утраты и отчаянье даже, но чтобы — милосердие в каждом движенье и красавица в каждом окне!
В фантазиях повторяется тема молитвы — «Друзья мои, себя храня, молитесь за меня» (Японская) — и другие упоминания о «встречах» с Высшими силами: «над нами ангел кружит, / и клянется нам, что счастливы мы будем» (Дунайская); «простит ли Бог или осудит, / что гак неправедно живу?» (Американская); «не пойму души его, ниспосланной ему небом» (Подмосковная). Главные вопросы фантазий о месте человека в мироздании и высших ценностей в его судьбе.
В «Турецкой фантазии» судьба традиционно своенравна: «Но судьба, как я заметил, это детище счастливых». Трудовой день истамбульского шофера Ахмета заменяет собою пейзаж Истамбула (как то было с Домиником в Париже, с танцовщиками в Вилкове). В часы груда жизнью человека правят Судьба и собственная воля:
тут ему подспорьем служат опыт, риск, и жест единый, и судьба, и обаянье — все подряд.
Но в час досуга «в случайной чайхане» предстает второй лик Истамбула, города-границы, храма двух вер. В беседе героев «сливаются нежданно лики Запада с Востоком, / кейф — с безумием, пускай лишь раз на дню,/ но и скорбь о самом низком, но и мысли о высоком <...> «Ахмет оставляет автору убеждение:
Все безумное от Бога, все разумное от Бога, человеческое тоже от него.
Человек здесь в гармонии с Богом и Судьбой. А «фантазийность» в причудливом соединении «всего подряд»: фатализма и паломничества, авантюризма и смирения, Запада и Востока — и в том, что нет «границы» между гостем и жителем города.
«Японская фантазия» безупречно отвечает стилю «не-путешествия». Указание на отдаленность Японии условно: «Не зря я десять тысяч перст нащелкивал коня». Портрет страны — строка деепричастий (как и Парижской), означающих человеческие действия: Япония предстала, «спеша, усердствуя, молясь, и плача, и маня». Прогулка героя «на Гиндзу золотую» посвящена размышлениям о собственной судьбе и состоянии духа: «костер удачи распалю, свечу обид задую», «Я так устал глядеть вперед с надеждой и опаской». В Японии мысли героя текут так, «как будто к дому я иду перед началом дня».
В «Японской фантазии» два контрастных мотива. Первый — единая судьба людей разных стран (как в Парижской и Турецкой): «Судьба на всех везде одна, знакомо все, все то же». Второй мотив — нерасторжимая связь человека со своей родиной: «Да, я москвич, и там мой дом, и сердце, и броня». Сталкивая эти мотивы, поэт следует музыкальному принципу контрапункта: «одновременное звучание двух или нескольких самостоятельно выразительных мелодий». Противоречие между «космополитизмом» и «патриотизмом» снято, в частности, в рефрене: «Друзья мои, себя храня, молитесь за меня», — который прочитывается как обращение и к японцам, и к согражданам. Так полнозвучный мотив родного дома не нарушает, а по-своему обусловливает чувства гражданина мира.
В «Американской фантазии» герой предстает «пред этим полднем рисунком тела своего» и на глазах читателя преображается: «на ногах растут копыта», и наконец: «прыжками, по-оленьи я по траве вермонтской мчусь». Причина анимализации — мировосприятие этого туриста, который о себе говорит с уничижением, мол, «странничек несчастный <...> Вермонта не объест», — а об окружающем — с восторгом: «Какая жизнь, скажи на милость!» Рассказывая о себе, он трижды повторяет слово пустой: «Мои арбатские привычки к пустому хлебу и водичке», «вой в пустом желудке», «дитя родного общепита, пустой еды, худого быта». «Перелетность» героя передают и самоироничные оценки, и «птичьи» сравнения:
Да, этот тип в моем обличье, он так беспомощен по-птичьи, так по-арбатски бестолков.
В отличие от героя Японской, помнящего, что «там мой дом, и сердце, и броня», герой Американской даже Арбат упоминает только в фигурах самоуничижения. Это ведет к анимализации, т.е. анти-поведению, которое триумфально завершается переходом на анти-язык: «И непосредствен, словно птица, учу вермонтцев материться / и мату ихнему учусь». Одновременно здесь звучит и контрастная, контрапунктическая мелодия: это беззаботная смеховая стихия, в которой растворяются границы между арбатским и вермонтским, между дозволенным и запретным, между птицей, человеком и оленем, людьми и жарким полднем. Так через взаимообусловленность «своего» и «чужого» в Американской и Японской показано место человека в подлунном мире.
Ироническая самооценка соотечественника, которая видна в Американской, усиливается в «Калужской фантазии», достигая сатирического звучания. Эта фантазия также построена на одновременном звучании несходных мотивов. Первый — гротескный мотив общей безответственности:
<...> кони тонут друг за другом.
Конюх спит, инструктор плачет, главный делает доклад, а москвич командировочный как бабочка над лугом, и в глазах его столичных кони мчатся на парад.
Служебная лестница «фантазийно» прослеживается до самой Верхушки:
Там вожди на мавзолее: Сталин, Молотов, Буденный, и ладошками своими скромно машут: нет-нет-нет...
То есть вы, мол, маршируйте по степи по полуденной, ну а мы, мол, ваши слуги, — значит, с нас и спросу нет.
Благодаря причастности к «великому делу», каждый ощущает собственное величие — таков второй мотив Калужской. «Зеленый водоем» — это «может, пруд, а может, озеро, а то и океан». У Командировочного начальника — «<...> ну, не то чтобы корона, / но какое-то сиянье над кудрявой головой». В апофеозе — величие конюха, младшего по субординации, которое доказывает всеохватность идеи: «Кстати, конюх тоже видит сон, что он на мавзолее, / что стоит, не удивляется величью своему». В финале «кони все на дне лежали» — закономерный итог безответственного «величия».
В Калужской бодрствующие грезят наравне со спящими — так поэт показывает мнимое, фантастическое место человека в мире, обусловленное подменой ценностей. Фантазия приобретает значение, близкое к «социальной утопии»: это идея, вытеснившая из жизни реальность, подменив ее собою.
«Подмосковная фантазия» связана с переосмыслением традиционных поэтических образов. Во-первых, «опровергаются» мотивы пушкинского «Пророка»: дар поэта внимать, жечь сердца глаголом. Герой Подмосковной иронически отзывается о человеческом восприятии и разуме («скромные мои представления о силе его пророчеств», «не пойму души его, ниспосланной ёму небом»), скептически — о ценности поэтического слова: «живу / в пристрастии к строчке и рифме, в безумии этом нелепом». Пророк не поэт, а ворон, и не в поэзии находит герой нравственную опору, когда каркает «крылатое существо — / как будто оно обвиняет, а мне оправдаться нечем».
Во-вторых, в Подмосковной переосмыслена тема Ворона, который «как персонаж из песни над головой кружится». В песне «Что ты вьешься, черный ворон...» предсказание сбывается неотвратимо. У Окуджавы, например в песне «Примета» («Если ворон в вышине...», 398), предсказание сбывается именно потому, что в него поверили. А герой Подмосковной неприметно уходит из-под влияния, которое фольклор приписывает ворону:
Я царствую здесь, в малиннике, он царствует в небесах <...>
Радостное созерцание природы (белое облако, лес, малинник) исподволь оттесняет скорбные речи. Трепет рассказчика (не осмеливаюсь) сменяется сознанием известного преимущества: мысленно отвращаясь от отчаяния и желчи», он отвергает зло в своем сознании: и, судя по интонациям, он знает все наперед...
Но в этом мое преимущество перед лесным пророком.
Герой Подмосковной утверждает, вопреки предчувствиям и пророчествам, возможность выбора между добром и злом.
Итак, фантазии Булата Окуджавы посвящены месту человека и «первоэлементов человеческих ценностей» в бытии. Фантазии медитативны, они включают элементы пейзажной изобразительности (больше других в Дорожной и Дунайской), повествовательности (Дунайская, Американская, Калужская), персонажности (Турецкая). В становлении жанра фантазии наблюдается движение от «пробы пера» в традиционном ключе (Дорожная, отчасти Дунайская) к уникальной форме.
Фантазиям присущи такие типы авторской эмоциональности, как «атмосфера благоговейного созерцания мира в его глубинной упорядоченности и приятия жизни как бесценного дара свыше» в Дорожной, Турецкой, Парижской, Японской, отчасти в Подмосковной; романтическая, за которой «тянется шлейф разочарований, драматической горечи, трагической иронии» в Дунайской; ироническая с элементами сатиры в Американской и Калужской.
В плане жанра и авторской эмоциональности нет каких-либо особенностей, которые выделяли бы стихотворения, положенные автором на музыку (Дунайская и Парижская), среди других фантазий.
Отличительные особенности фантазий заимствованы у музыки. Такова «нетрадиционность» фантазии как жанра, в частности, связанная с несоблюдением формы лирического путешествия в Парижской, Американской, Турецкой и Японской, с «перевертыванием» традиционных поэтических образов в Подмосковной. Это «фантастический, причудливый характер построений» в смысле особенностей образов и их развития в Калужской, Американской, Парижской. Это «своеобразная композиция», связанная с нарушением иерархии объектов в Парижской и Калужской, со сложным модально-временным построением в Дунайской и Калужской. Это контрапункт, «одновременное звучание двух или нескольких самостоятельно выразительных мелодий», в Калужской, Японской, Турецкой, Американской; таков и контрапункт мотивов земного и небесного в Парижской, Турецкой, Подмосковной.
Поэт подслушал у музыки созвучия, передающие его художественное видение мира. Заостряя внимание на противоречиях бытия, Булат Окуджава преодолевает их гармонией. В то же время музыкальные приемы несут максимальную смысловую нагрузку, не отвлекая при этом внимания читателя на форму, что как нельзя более подходит поэту, убежденному: «Музыка стиха всегда тиха».
Л-ра: Филологические науки. – 2001. – № 1. – С. 14-21.
Произведения
Критика