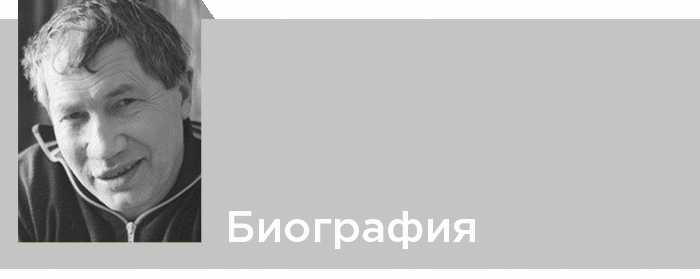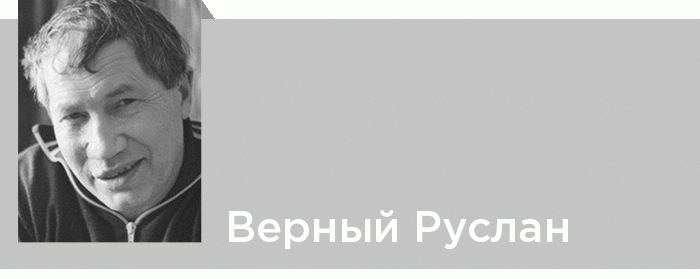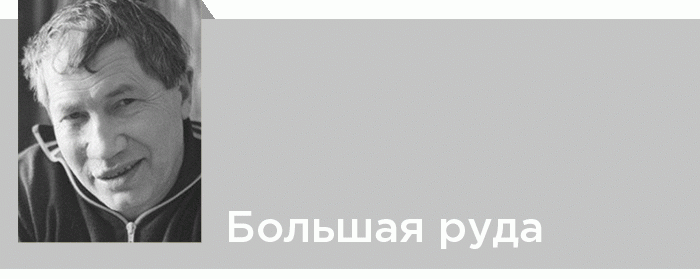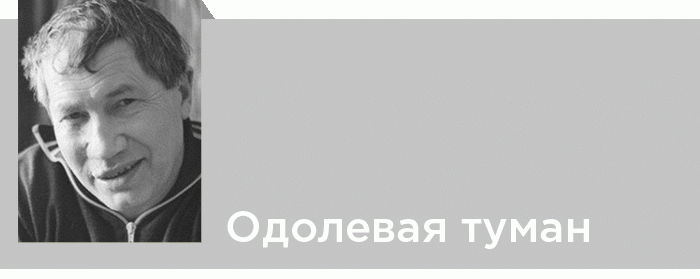На пути ко «всей правде» (К выходу в свет четырехтомника Г. Владимова)
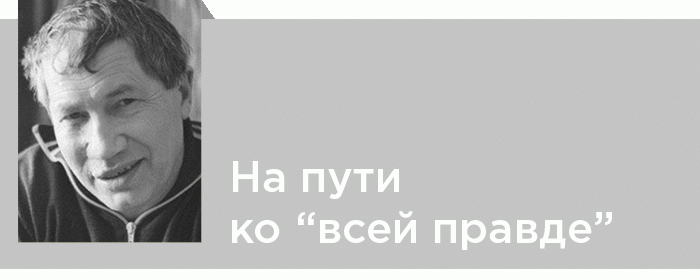
Игорь Золотусский
Однажды став на тропу сопротивления, трудно, да почти невозможно, с нее сойти.
Г. Владимов. Вечер в Бостоне. Ответы читателям
Он не был в числе триумфаторов, с шумом и славой ступивших на родную землю в первые годы перестройки. Он не приехал и позже, когда сама перестройка была сметена революцией 1991 года. Другие изгнанники царили на сценах московских залов, их книги, прежде запрещенные в СССР, выходили большими тиражами, их интервьюировали для газет и телевидения.
Г. Владимов не спешил объявиться в России — он сидел за столом в маленьком немецком городке Нидернхаузене и дописывал свой роман.
Но его имя тем не менее не было забыто. Оно упоминалось рядом с именами лучших из числа тех, кто вынужден был покинуть свою страну не по собственной воле. И так же, как других диссидентов и эмигрантов третьей волны, его помнили не только как писателя, уже оставившего свой след в российской словесности, но и как одну из крупных фигур сопротивления, не подчинившихся коммунистической власти.
В романе «Генерал и его армия» сержант Шестериков говорит о чекистах и коммунистах: «Не верь им никогда. Не верь им ни зимою, ни летом. Ни в дождь, ни в ведро. Не верь и когда они правду говорят». Таков политический символ веры и самого Владимова. Эта суровая коррекция взгляда на прошлое позволяет и к настоящему отнестись без благодушия.
Роман «Генерал и его армия» был закончен в 1996 году (и тогда же напечатан в журнале «Знамя»), но слова, которые автор вложил в уста сержанта Шестерикова, могли быть произнесены Владимовым гораздо раньше, ибо и в шестидесятые, и в семидесятые годы он писал, думал и жил в полном соответствии с ними.
«И вот я хочу спросить полномочный съезд — нация мы подонков, шептунов и стукачей или же мы великий народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев?» — так формулировал он свое кредо еще в 1967 году, обращаясь к делегатам IV съезда писателей СССР. Владимов одним из первых поддержал Александра Солженицына, который в письме к съезду призвал собратьев по перу покончить с советской ложью.
Он выходил на линию огня, где ценой победы могла быть и жизнь. То было время подвигов, когда голос одного человека, заступившегося, кажется, только за свое достоинство, мог защитить и достоинство нации, а нация еще чувствовала себя нацией, а не собранием людей, которым нет дела друг до друга.
К тому времени Г. Владимов был уже автором «Большой руды» — повести, появившейся в «Новом мире», который в те годы считался журналом оппозиции и печатал исключительно «реальную» прозу.
Владимов пришел туда в 1956 году как редактор отдела прозы, но публиковаться стал как критик, причем критик добролюбовской школы, всегда требовавшей от литературы максимальной пользы.
Литературная молодость Владимова совпала с ударами колокола, возвестившего конец эпохи террора.
В марте 1953 года умер Сталин. Началось таяние снегов, стал лопаться и расходиться ледяной покров, сковавший Россию.
Умолк рев Норда сиповатый, — как писал Державин, приветствуя — тоже мартовские — перемены в России 1801 года.
Сталин умер, но созданная им система осталась. Мать Владимова, как и отцы и матери многих из нас, все еще находилась за колючей проволокой. Не за горами были и новые заморозки.
Владимов начинал в эпоху, когда судьба, кажется, назначила ему быть советским писателем. Но уже в первых своих статьях он отказался от этой счастливой участи. Он противопоставил давлению государственной воли свою волю, и слово «воля» (с прибавкой «активная») сделалось ключевым в его языке.
Уже одна независимость владимовского языка, при всей видимой лояльности его статей, говорила, что он хочет идти своей дорогой. Тяжелые периоды были попыткой количеством слов замаскировать отсутствие официозного содержания, а революционно-демократический максимализм шел не только от характера и от возраста, но и от желания силой победить силу. Все мы дети жестокости, непримиримости и в том смысле, что, не покоряясь им, не покоряемся жестоко и непримиримо, а сила, постоянно тренируемая и наращиваемая, грозит обернуться насилием.
Критические статьи Владимова — статьи максималиста, резко отделяющего слабого от сильного, героя от слюнтяя, рефлектора от деятеля. «Но смотреть, как гибнет этакая пузатая мелочь, — читаем в статье о К. Финне, — смотреть, как топырит жабрами на песке себялюбивая плотва, у которой нет ничего, кроме сомнительных талантов и несомненной прожорливости, согласимтесь, что это, может быть, и картинно, только трагедии в этом никакой нет, а есть, пожалуй, необходимая дезинфекция жизни».
«Согласимтесь», что этот абзац напоминает знаменитое сочинение Родиона Раскольникова, в котором люди делятся на Наполеонов и «инфузорий». И если гибнет Наполеон, то трескается земная кора, а если «инфузория» — то это «дезинфекция».
Наверное, оттого так и строга авторская селекция: если писатель, то Солженицын («глашатай, пророк в своем Отечестве»), если герой — то сгусток воли, а не «плотва», не «пузатая мелочь».
Владимов то и дело поминает в статьях и в прозе имя Мартина Идена. Этот герой Джека Лондона — его герой. Он сделал себя сам. Он одинок и горд. И он наделен волей, которая, когда отчаяние овладевает им, помогает ему покончить с собой. Это герой — стоик, герой — «верный Руслан». Только, в отличие от Руслана, он верен не государственной службе, у него своя, столь же святая Анти-Служба. Я сознательно здесь пишу слово «Служба» с большой буквы, потому что и Анти-Служба для тех, кто ей поклоняется, тоже есть божество. И не дай Бог в верности ей оступиться, заколебаться, отклониться на шаг. Прощения, как и в истории с Русланом, не будет. В послужном списке чтимых Владимовым имен рядом с Джеком Лондоном стоят Р. Киплинг, Э. Хемингуэй и наш соотечественник Д. Писарев. Подбор этот не случаен. Каждый из них — сильная личность и поэт силы. Писаревские волевые ноты звучат в статьях молодого критика. Нет разве блестящих фиоритур Писарева, привыкшего и в языке играть кинжалами. Зато есть другое, и это другое не мог не заметить читатель 50-х — 60-х годов. Есть свобода от советской фразеологии, свобода от идеологических клише и верноподданнической лексики. Такая свобода тогда дорогого стоила.
И все же Владимов-критик и Владимов-прозаик разнятся, как могут разниться юноша-студент и сложившийся человек.
По материалу и сюжету «Большая руда» вписывалась в молодежную прозу тех лет — человек уезжает на стройку (варианты: в Сибирь, на целину, уходит на траулере в море), там ищет счастья, там его и находит. Здесь набухает нарыв конфликта, здесь он вскрывается (чему способствуют чрезвычайные обстоятельства — буря, шторм, аврал из-за плана), обнаруживая пропасть, отделяющую добро от зла.
Все это есть у Владимова, только Пронякин — его герой — не так уж молод, и по стройкам он, как признается сам, помотался, и хочется ему не то чтобы слетать за счастьем, а осесть наконец на одном месте, прикрепиться к нему, как прикрепились возле бродячего вагончика конторы крепкие яблоньки, всякий раз сигналящие ему о чем-то, чего он сам еще не додумал, не осознал, для чего не нашел подходящих слов. Он ищет эти слова в письмах жены, а она — в его письмах, где два перекати-поля признаются в желании воссоединиться.
Письма эти пронзительны, как пронзителен финал повести: две машины встречаются на дороге — одна везет гроб с телом Пронякина, другая — едущую на встречу с ним жену. Дороги расходятся, люди, любившие друг друга, никогда не встретятся, жизнь кончена. И зачем нужно было Пронякину нагружать МАЗ с верхом рудой, зачем тащить его по скользкой, раскисшей от дождя дороге вверх, на край карьера, и зачем вообще нужна эта руда, эта Курская магнитная аномалия, вся эта гонка и спешка (ну взяли бы руду через день, через неделю — что изменилось бы?), эта игра в карты с жизнью, дающейся человеку только раз?
Такие вопросы встают по прочтении «Большой руды» сегодня, но еще суровей они звучали в 1961 году, когда главные герои повестей и романов не могли, не должны были, не имели права умирать.
В чем смысл нашей жизни? — спрашивал автор. — Почему мы все время должны куда-то ехать, уезжать, бросать родительское гнездо и вить его там, где люди не живут, где и зверю жить не очень сладко? Да, большая страна, да, земля пустует, ее надо обживать, заселять, но не ценой же жизни, не ценой надрыва, перегрева сердца и нервов. Земля эта дана нам навеки — зачем же спешить? Куда рваться? Нельзя ли спокойно, медленно и основательно продвигаться туда, куда неминуемо придется прийти, — но не класть же под каждую шпалу мертвеца.
Смерть Пронякина заслоняла все в повести: и дежурного опытного бригадира Мацуева (таких старших наставников молодых горячих героев развелось в литературе множество), и положительную интеллигентку-инженершу (и таких в прозе 60-х хватало), и благородного начальника карьера (конечно, бессребреника), и сопротивляющуюся Пронякину бригаду (потом просящую у него прощения), и то, что, кажется, возвышая его смерть, звучало в конце повести как гимн «большой руде»:
«Шла большая руда, брызнувшая фонтаном из вспоротой вены земли. Она переполняла ковши экскаваторов и кузовы машин и неслась, летела по шоссе бесконечной вереницей ревущих самосвалов». Она, «разом дрогнув, срывалась и падала, и падала в разверстое жерло бункера. Она высекала искры из стальной обшивки, и в темной глубине медленно подскакивали многопудовые глыбы, прежде чем улечься на зубья транспортера.
Солнце, пробиваясь в щели навеса, сияло... и кузовы, испачканные бурой пылью, горели, будто кованные из червонной меди. Шла большая руда...»
Этот апофеоз железа, эта оратория лязганья, грома и грохота воспринимаются отнюдь не патетически, а иронически, как ни казались они цензорам 60-х годов песнью песней социализма. Так как после нее в степи встречались фургон, везущий мертвого «чудака» Пронякина в прозекторскую белгородской больницы, и такси, в котором едет его жена. Шофер фургона «очень торопился. Он должен был сдать тело, а потом еще заехать на фильмобазу и заполучить картину поновее, пока не расхватали другие рудники и заводы».
В «Большой руде» Владимов предстал перед нами уже как писатель с твердым наклоном пера: «Тень облака скользнула вниз, упала на пестрое движущееся скопище машин и людей, погасив блеск металла и сверкание стекол. Тень проползла по холмистому дну карьера, подернутому дымкой, — через россыпи желтого песка, голубовато-свинцовой глины и обломки расколотых глыб цвета запекшейся крови — и стала выбираться наверх, обгоняя взлет деревянных лестниц. И умчалась в зеленую степь, к перелескам и хуторам, затерявшимся на горизонте».
Снимем с этой многоцветно-подвижной картины один цвет — цвет запекшейся крови. Повесть только началась, а зловещий конец, кажется, предсказан. Он засечен глазом, хотя еще не дошел до сознания. Это — кровь Пронякина, это кровь жертвы, принесенной железному Молоху. Во имя чего?
Вспомним увиденную нами в финале «вспоротую вену земли». Из земли спешат выкачать ее кровь, взамен она тоже требует крови. Насилие порождает насилие, кровопролитие — кровопролитие.
История с романом «Три минуты молчания» еще далее продвинула Владимова по пути жесткого реализма. Выйдя в урезанном виде в «Новом мире» (1969), роман претерпел мытарства в издательстве и после семи лет изнурительного противостояния автора и редакции, покалеченным, вышел в свет.
Читателю конца 90-х годов нелегко понять, что не устраивало издателей в этом романе. Он уже отвык от баланды советской прозы, которой много лет кормили всех нас.
Впрочем, делая скидку на-тупость редакторов и цензуры, я могу догадаться, чего они устрашились в «Трех минутах молчания»: все, что здесь описывается, нельзя вбить в колодки заказной, сервильной литературы. Вместо подвигов — пьянки, вместо образцовых браков — гулящая жизнь, мелькание женщин, мат, грубость, а охота за рыбой — не счастье труда, но каторга, и награда за все — пачки денег, просаженные за одну-две ночи в ресторане «Арктика».
И конфликт почти что традиционный: из-за чего чуть не ушел на дно морское СРТ «Скакун»? Из-за того, что «стране рыба нужна», как говорит отрицательный герой Граков, а СРТ выпустили в море, не закончив ремонта, — гнали план. Борт СРТ лопнул, вода ринулась в трюм, а тут еще и шторм, переходящий в ураган, и угроза разбиться о скалы.
Казалось бы, чего страшного: типично советский конфликт. К тому же, погибая, моряки «Скакуна» спасают шотландское судно. Нет погибших, нет и пропавших, кроме птицы Фомки, смытой с палубы волной. А в конце старший механик по прозвищу «дед», чья правда, как говорится, взяла верх, произносит фразу, оспаривающую демагогию Гракова: «Стране тоже и рыбаки нужны».
Победа добра над злом очевидна — Граков посрамлен, Сеня соединяется со своей новой возлюбленной Клавкой, — но что-то не веет от этого хэппи-энда счастьем: Шалая (шалый? гулящий? блуждающий? не нашедший себя?) ждет та же разлука, то же море, та же каторга, тот же план.
По-видимому, из-за этой тоски в конце и не могли смириться с романом Владимова его критики и гонители, а автор тем временем выходил на прямую, ведущую его к вершине своих усилий — к «Верному Руслану».
Говоря об этой повести, я бы, пожалуй, начал с конца — с того момента, когда погибающая караульная собака с перебитым хребтом, умирая, слышит сквозь потухающее сознание призывный сигнал: «Фас!» Это сигнал к нападению, к броску на беззащитного, к убийству.
Конечно, Руслан не осознает, что совершает убийство, — таков его долг, его работа (которую Владимов называет Службой), наконец, акция его любви, ибо вся его нежность, страсть и обожание — и Руслан опять-таки этого не понимает и до конца жизни не поймет — отданы злу. Злу, не ведающему, что оно зло, и, может быть, даже уверенному, что оно-то и есть высшая доброта.
Руслан — исполнитель. Теоретики, установившие такой порядок вещей, находятся наверху. Он никогда их не видел и не увидит — ему дано видеть только Хозяина, солдата вохры — вооруженной охраны лагеря. Его команды Руслан исполняет, в него верит, его боготворит. И не зря лицо Хозяина, на которое наложила печать его палаческая жизнь, кажется Руслану «божественным». Лишь повинуясь Хозяину, Руслан чувствует себя свободным. Для него нет свободы вне покорности, вне рабского служения, вне «восторга повиновения».
Парадокс психологический и исторический: свободен тот, кто несвободен, кто отдал разум, волю и сердце той философии счастья, которую обосновал в «Братьях Карамазовых» Достоевского Великий Инквизитор. Полемизируя с принесшим себя в жертву ради свободы человека Христом, Инквизитор говорит: «...Нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому скорее передать тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается... Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться».
Высшая свобода, по Инквизитору, это отказ от свободы, это передача ее в руки тех, кто, зная человека, не станет обещать ему Царствие Небесное, а здесь, на земле, накормит его, правда, при условии, что подчинит себе его волю. Нужен порядок, нужны оковы, так как свободный человек страшнее зверя. Пусть страдают те, говорит Великий Инквизитор, кто, обуздав человека, взял бремя его закабаления на себя.
Такова фарисейская философия Инквизитора, такова и философия хозяев Руслана, философия хозяев его Хозяина.
Руслан у Владимова не циник, а идеалист. Он романтик насилия, романтик тюремного мира, несчастный апологет колючей проволоки. Все, что обнесено проволокой, — для него оплот покоя и счастья, все, что вне ее, — хаос, непорядок, мир безумия.
И в этот мир, куда только что через распахнутые лагерные ворота навсегда ушли его подопечные, должен ступить и верный Руслан.
Так выглядит советская жизнь в повести Г. Владимова. Так выглядит в ней коренная проблема человека и проблема христианства. Ведь мы — европейцы — доживаем XX век в пока еще христианском мире, хотя Христос давно заперт в храмах, ключи от которых находятся в руках чиновников во Христе.
Пророческий выход автора «Руслана» за черту советской (и антисоветской) тематики не был оценен в конце 70-х годов. Повесть читали как антисталинскую, укладывающуюся в прокрустово ложе диссидентской литературы. И, наверное, только сейчас может открыться ее трагическая глубина. Ибо сегодня сознание не отдельного философа или поэта, а мука подавляющего числа людей в России поставила перед нами роковой вопрос: что есть свобода?
Вспомним безудержную тоску Руслана по проволоке, по ровно построенным колоннам, по страху подконвойных, боящихся отклониться на сантиметр, по привычным запахам барака, по Неприкосновенной Зоне, отделяющей жизнь от смерти.
Есть вещи, написанные в порыве праведного гнева, которые, сделав свое дело, ушли в прошлое. Этого не скажешь о «Верном Руслане», потому что «История караульной собаки» — это история человека.
Руслан — овчарка, а овчарки по своему призванию сторожа. Они стерегут овец — самых покорных животных на свете. Издавна овцу, или ягненка, агнца, приносили в жертву во имя любви к Богу. И овца не протестовала, она, как пишет Владимов, с какой-то жертвенной нежностью подставляла шею под занесенный нож.
«Он не считал своих овец виноватыми», — говорит о Руслане автор, Руслан просто полагал, что им иного не дано. Какое страшное замыкание идущих навстречу друг другу потоков любви: любви Бога ко всякой твари и любви твари к Богу, лишь смертью своей способной доказать эту любовь! Кто в это мгновенье палач, а кто жертва? И есть ли свобода выбора такого конца — истинная свобода?
Руслан задает себе этот вопрос, когда обращается в воспоминаниях к детству. Его овчарка-мать родила шестерых детей. Но из этих шестерых остался только Руслан. Потому что он был умней и сильней остальных. Мать смирилась с их гибелью, так как была опытней своего сына. Она все «провидела», эта «мудрая сука», «обреченная за свою похлебку рожать и вскармливать для Службы злобных и недоверчивых», она «потому и не терзалась, что знала — те пятеро, уплывшие от нее в жестяном ведре, удостаивались не худшей участи».
Она провидела участь Руслана, которому суждено было полюбить тех, кто утопил его сестер и братьев. Верный Руслан не только верен Службе, но еще и «неистов» в вере, как говорится в повести.
Неистовая вера. Неистовая эпоха. Мы знаем о неистовстве человека и о неистовстве зверя. Но зверь неистов только тогда, когда он голоден и когда спасает свою жизнь. Руслан же «неистов идейно», и это — попрание звериной природы, попрание генетического кода. Именно к тем, кто сделал его таким, обращены слова эпиграфа к повести: «Что вы сделали, господа?» Эпиграф этот взят из Горького, лучше было бы, если б в нем вместо слова «господа» стояло слово «товарищи», ибо сделали все это с Русланом «товарищи» («господа» бы до этого не додумались), к которым так милело сердце отца соцреализма.
Владимов в одном интервью признается, что сначала написал рассказ о собаке-полицае, которую по закрытии лагеря оставалось только убить. Но позже от презрения к ней он пришел к сочувствию. Руслан не полицай, а страдательное лицо. Он выработал свой ресурс любви. «Возвращаться ему было не к чему. Убогая, уродливая его любовь к человеку умерла, а другой любви он не знал». Он уже не чувствует не только «ни боли, ни страха», но и «ни к кому любви».
Странно звучит слово «любовь» в применении к караульной собаке. О какой любви может идти речь, если весь мир ее чувств уподоблен лишь одному пожирающему желанию — не дать двуногим ступить шаг за пределы проволоки.
Образ проволоки врезается в память как метафора нашей жизни. Ее железная паутина опутывает страну, удерживая людей от неповиновения, от бунта. Кажется, сам сатана, толкающий нас к безудержной свободе, повязан и укрощен ее ржавыми остриями и загнан в барак.
Ни чеховская Каштанка, ни Холстомер у Толстого не знали ничего подобного — они жили в другом мире.
Но спросим себя: канули ли в прошлое жестокие времена? Недаром Руслан и все оставшиеся без службы собаки ждут не дождутся, когда жизнь вернется на круги своя. Когда на станцию прибудет эшелон, из него выгрузят зеков, построят в колонны и поведут туда, где им и положено быть. И хотя конвоиры «устали ждать» и «устали верить», «часовой механизм», заведенный в уме, каждый день заставляет их стекаться со всех сторон к станции и ждать, ждать. «Чесночный запах страха» не выветрился у тех двуногих, кто наблюдает этот парад верности, парад смертников, которым никогда не явится даже призрак свободы выбора.
Прощальная встреча Руслана с Хозяином подтверждает это. В станционном буфете сидят за столом охранник и бывший заключенный (Руслан его называет Потертый), они говорят о лагерном архиве, который вывезен из зоны для «вечного хранения». Зачем? А для того, чтобы «в любой час можно каждого поднять, полное мнение составить. У кого чего за душой, и кто куда повернет, если что». «Ты временно освобожденный, — говорит хозяин Руслана зеку. — Понял? Временно тебе свободу доверили».
Как в воду глядел этот вохровец. После 1956 года, на время приглушив обороты, вновь заработала машина, и стало ясно, что ни один винтик в ней не утерян, ни одно колесико не истерлось. И потянулись в места не столь отдаленные тысячи несогласных, непокорных, неусмиряемых.
Руслан их ждал, но не дождался. Он принял за возвратившихся зеков комсомольцев; выгрузившихся однажды на той же платформе, и бросился на них, когда те вдруг разрушили строй колонны. Он обознался и заплатил за это жизнью.
А природа подсказывала ему, что так и будет: «лунный свет его чуть с ума не сводил, порождая... скорбные предчувствия». От луны, которая висит ночами над поселком, «пахнет покойником».
В поселке, правда, живет один бывший зек — Потертый. И Руслан берется конвоировать его. Он сторожит Потертого в доме, у дома, он следует за ним повсюду, не спуская с него глаз. Эта почти параноидальная служба Руслана — после подлинной лагерной — уже болезнь, а не героическое самостояние. Руслан пасет и сторожит тень своего прошлого, к тому же Потертого и не надо сторожить. Он и без охраны никуда не денется.
Эта смена «хозяев» для Руслана поистине смена вех. И вместе с тем восстановление преемственности: собака и человек вновь оказываются в одной связке. Снова «конвоир» и «подконвойный» несут относительно друг друга бессменную вахту. Потертый хочет бросить проклятый поселок, где все напоминает ему о лагере, и уехать. Но его мысли смелей его ног, голова мечтает о побеге (для Руслана, стерегущего его, это побег), а ноги не слушаются ее. В ногах — главный страх, ибо это животный страх, подкожный, страх в крови. И когда Потертый идет на станцию, садится в поезд, наблюдающий за ним Руслан даже ухом не поведет, так как уверен, что тот спрыгнет с подножки.
Да и Потертый знает, что Руслан навсегда останется на своем посту и как привязанный будет ходить за ним до тех пор, пока опять не вобьют столбы, не натянут проволоку и прожектора с вышек не осветят воскресшую «зону».
Связь между человеком и собакой здесь — связь обреченности: и Потертый и Руслан отравлены лагерем, их не переделаешь. Владимов не видит лучезарного продолжения этой истории. Только одно вызывает его сочувствие — верность Руслана. Руслан «неистовый», но он не предаст, не сподличает. Он останется голодным, но не возьмет куска из чужих рук.
Он не предаст и своих сородичей. Когда взбесившаяся охрана в сорокаградусный мороз, мстя заключенным, отказавшимся выйти на работу, поливает их водой из шланга, он вместе с другими собаками бросается на вертухаев.
В сцене собачьего бунта Владимов достигает ясности письма, позволяющей увидеть все с силой сопереживания, на какую способен только участник, а не свидетель. Начиная с того момента, как на морозе раздается еле слышный шорох разворачивающегося рукава (в повести сказано еще точней: «потек шорох»), и до первого толчка воды, выбрасывающего под потолок барака смертоносную струю, мы вместе с Русланом ждем самого худшего — массовой гибели обледеневших людей.
Руслан задается вопросом: а что было бы, если б зеки вдруг все кинулись на своих мучителей, ведь от тех ничего бы не осталось, так как их меньшинство. Но все, во-первых, никогда не чувствуют, как один человек. А во-вторых, даже под угрозой всеобщей гибели каждый думает только о себе, надеясь, что именно он, не поднявший руку на своих убийц, будет прощен и спасется. Инстинкт страха подает человеку такие команды, которые никогда бы не подал собаке.
«Запах страха» — вот как суммирует Руслан запахи, исходящие от «двуногих». Зеки боятся конвоиров, конвоиры — подконвойных. Кто отравил их этим ядом? Почему так устроен мир? Ответ Руслан слышит из уст Потертого: «Ну, без креста же они, вертухаи! Без креста родились, от невенчанных...»
Но этот ответ не будет доступен его пониманию, и мысль Руслана никогда не обратится в эту сторону, хотя в иные моменты он задумывается о том, о чем не может задуматься собака.
Сам того не ведая, Руслан в своих размышлениях о «двуногих» проникает в экзистенциальные глубины человеческой психологии, где вера и подлость мешаются друг с другом и где, как правило, побеждает страх. Кажется, собаке не понять этого кровосмесительного соседства, ибо ее преданность чиста до конца, а мысль не знает самооправданий логики.
Есть три понятия, которые для Руслана значат более всего: Служба, Хозяин, Неприкосновенная полоса. Можно было бы добавить к ним и четвертое — Проволока. .
Повесть начинается со страшного для Руслана дня, когда бульдозер срезает своим ножом столбы, между которыми была натянута Проволока, и те падают на землю, как люди, подкошенные очередью. Что происходит? Куда делись зеки, которых нужно сопровождать? Куда исчезли запахи и звуки лагеря, без которых его обоняние и слух отказываются работать? Руслан «перестал понимать, что к чему». К тому же и Хозяин предает своего подельника.
Какой же невыносимый опыт XX века лег на душу этой собаки, таинственным родством связанной с грехами и виной человека! Не раз в повести, где говорится о переживаниях Руслана, упоминается слово «грех». И поразительно, что собака сознает грех, а человек — нет. Ведь Хозяин для Руслана — «божественный», а Руслан для Хозяина — «падло».
Падло, падаль — ничего горше, кажется, Руслан не мог услышать о себе. Он привык считать падалью тех, кого стерег. Они, действительно, падали на его глазах, и в морозные дни их трупы, стучавшие о борта фуры, отвозили туда, куда уводили и приговоренных к отправке в «рай» собак.
* * *
Я познакомился с Георгием Владимовым, когда «Верный Руслан» уже существовал как рукопись, но не существовал как книга: мне он был передан самим автором в виде бледно отпечатанных машинописных страниц. Владимов и его жена Наташа жили в Филях в маленькой двухкомнатной хрущобе, и там-то, как, впрочем, иногда и в других домах, и происходили наши встречи. В более узком кругу, то есть у них дома, помню Андрея Тарковского, Феликса Кузнецова. Владимов тогда согласился на диалог с Ф. Кузнецовым в «Литературной газете», чтобы после долгого перерыва появиться в печати и хотя бы таким образом защитить или протолкнуть в издательстве «Три минуты молчания». Ф. Кузнецов извлекал из этого свою выгоду — входил в отношения с опальным писателем, а стало быть, подтверждал репутацию «широко мыслящего» функционера.
Позже «Литературная газета» печатала о Владимове гнусные статьи, пользуясь тем, что его уже нет в Москве и если он и ответит ей, то «из-за бугра», а в СССР этого никто не услышит.
Тогда мы еще могли в таком составе собираться вместе, но через три-четыре года это уже стало невозможно: пути, как назвал его Ф. Кузнецов, «четвертого поколения» разошлись — одни вручили свою судьбу Службе (но не будучи так преданы ей, как верный Руслан), другие — Анти-Службе, третьи скрытой борьбе предпочли труд за письменным столом. Г. Владимов в 1983 году был выдворен за границу. Этот дьявольский прием — оставить писателя на свободе, но отправить его за кордон — если и не сломал, то покалечил не одну жизнь. Несколько десятков из числа талантливейших людей выбросили туда, где их силы и их дар были никому не нужны.
Владимов очень скоро убедился в этом (см. том его публицистики). Сытый Запад принял их как новенькое, а потом отрыгнул как старенькое. Этот любовный роман был не более чем мезальянс.
Одним из первых это осознал Солженицын: его речь в Гарвардском университете, где он бросил перчатку религии обогащения, не пробудила, а лишь ожесточила покровителей русских изгнанников в Европе и Америке. Время тучных коров кончилось, настало время коров тощих.
Мне кажется, особенно тяжело было в этих обстоятельствах Г. Владимову. Прежде всего из-за его безоглядной преданности писательству. В этом смысле он особняком стоит среди фигур эмиграции третьей волны. Он поселяется не в Париже, не в Лондоне или Нью-Йорке. Его не видно ни на конгрессах, ни на симпозиумах, ни на пресс-конференциях, ни на университетских кафедрах. Хотя, в отличие от своих собратьев по изгнанию, он критик и мог бы читать курсы лекций по русской литературе, ибо знает предмет. Но, за редкими исключениями, он этого не делает.
Кормясь нечастыми выступлениями на радио «Свобода», перепечатками своих прежних книг, он погружается в архивы, в чтение документов о Второй мировой войне и за несколько лет заканчивает еще один факультет — факультет по специальности «Русская история 1941-1945 гг.».
Его служба на посту главного редактора «Граней» длилась недолго. Человек, никогда не принадлежавший ни к одной из партий, Владимов не хочет покоряться идеологической дисциплине НТС. Уход из «Граней» окончательно определяет его образ жизни, который нельзя назвать никаким иным словом, кроме слова одиночество.
Как и его герои, Г. Владимов — одинокий волк, чурающийся стаи, стайного мышления и стайных инстинктов. Одиночество помогает собрать силы в кулак, энергию в пучок, но оно и томит, и обособляет, и вырывает писателя не из процесса (если иметь в виду литературный процесс), а из быстро меняющейся жизни. Чувствовать, как волны этого прибоя бьются о стены твоего дома, писателю необходимо.
В рассказе «Не обращайте вниманья, маэстро!» есть такая фраза: «Я думаю, что книги немножко по-другому читаются, если знаешь, что автор живет не на Азорских островах». Это слова Владимова о себе. И они сказаны тогда, когда чекисты просматривали окна его квартиры, подслушивали его разговоры и держали под надзором всех, кто приходил к нему в дом.
Но несмотря на террор, то все же была жизнь на родине, и противостояние власти лишь подзаряжало душу, гнало ток, гнало кровь и давало стимул к писанию. На Западе этого электрического напряжения не было. Никто не вскрывал почтового ящика, не пугал угрожающими звонками, не царапал железом кузов твоего автомобиля.
Даже эти отрицательные свидетельства внимания к тебе в России говорили, что ты есть, ты занимаешь свое место, ты нужен, как ни парадоксально это звучит, ты делаешь дело и получаешь отзвук. Для русского писателя, привыкшего творить с пользой, это необходимо. Отзвук нужен как хлеб, без читательского эха творить в пустоте разреженного воздуха Запада, где быстро глохнут все звуки, — почти пытка.
Может, поэтому эмигрантский период для многих писателей третьей волны — эпоха спада, снижения, размагничивания творческого поля. Ведь все лучшее, что было написано ими, написано дома, когда топор цензуры висел над их головами. Дома написаны: «Архипелаг ГУЛАГ» и «Один день Ивана Денисовича». «В окопах Сталинграда», «Семь дней творения», «В поисках жанра» и «Ожог», «Приключения солдата Ивана Чонкина».
Каждая из названных выше книг была прорывом в колючей проволоке советской литературы. Были сделаны «лазы» и «проходы», как пишет Владимов в «Верном Руслане». С вышек еще стреляли, лагеря не были ликвидированы, и в этом броске был риск, была пьянящая радость жертвенности, был высокий звук.
Назвав кагэбешника в рассказе «Не обращайте вниманья, маэстро!» Коля-Моцарт, Владимов иронически вознес на одну высоту и музыку подавления, и моцартианство противостоящего ему бесстрашия. Ведь слежка в этом рассказе поднята до уровня игры, что, с одной стороны, усиливает поэтический эффект, с другой — страшное делает нестрашным, грозное смешным. Это шутовская поэзия сыска, антидетектив, клоунада подслушивания и подглядывания, заканчивающаяся комической дракой, достойной арены цирка. Вместо благородной сатиры, Владимов создал комикс, разыграл водевиль, напялив на своих преследователей дурацкий колпак.
Вообще там, где Владимов смеется, где он отдается стихии игры, он очень хорош. Жаль, что его веселая пьеса «Шестой солдат» (1981) не увидела свет рампы тогда, когда была написана. Я уверен, она бы имела успех. Этот бурлеск одинаково пришелся бы по душе и тем, кто пожелал бы увидеть в нем антисоветский мотив, и тем, кто в творениях искусства ценит прежде всего искусство, прихоть фантазии, способной придать предмету изображения не один и не два, а множество смыслов.
В пьесе действуют боги Арес и Афина, и их полет с Олимпа на улицу провинциального русского городка вносит в сюжет ноту исторической буффонады. Автор смеясь говорит зрителю: все, что ты видишь, уже было, есть и будет до скончания века.
Гадалка-цыганка на станции, предсказывающая судьбу, крестьянин, который «едет из России в Россию», и бессмертные дети Зевса недалеко стоят друг от друга, они связаны одной цепью, и цепь эта — правда и вымысел, при том уточнении, которое сделал Шекспир, сказавший однажды: «лучшая правда — вымысел».
Героическое мешается в «Шестом солдате» с комическим, и, чем безудержней смех, чем ниже, кажется, он опускает нас на грешную землю, тем выше взмывает лирическая тема, тем чище представляются высокие чувства, тем сильней берет за сердце пафос взлета.
В пьесе речь идет ни больше ни меньше, как о гибели мира. Солдат говорит крестьянину, который называет его «злопамятным»: «Если наш мир все-таки не погибнет — его спасут злопамятные люди. Которые не прощают зла». Признание, без сомнения, для автора очень личное. Вероятно, именно к таким людям он относит себя. Злопамятство здесь — не злая память, а память, которая помнит все: это память писателя.
Живя уже полтора десятка лет в стране, где до сих пор выплачиваются пособия евреям, отцы и матери которых были сожжены в газовых камерах, Владимов не может не думать о том, надо ли прощать или не прощать зло. Страна, покрытая сетью превращенных в музеи (а не снесенных, как у нас) лагерей, каждый день вспоминает позор своего прошлого: ее память кровоточит, ибо не выровнены бульдозером и не закопаны в землю Дахау и Бухенвальд.
Недавно я был в Германии на съезде свободных немецких авторов. Он проходил в Веймаре. На съезде я услышал вопрошающие голоса: может, пора закрыть эти страшные музеи, эти выставки людоедства? Старшее поколение, чью совесть язвят эти раны, понесло свою кару, но почему должны испытывать стыд молодые, которые не повинны ни в чем, кроме того, что родились в Германии?
Вопрос был задан, хотя не нашел поддержки. Завтра он будет задан еще громче, и немцам придется решать, «злопамятная» они нация или нет.
Вот почему от повести о караульной собаке до романа Владимова «Генерал и его армия», написанного в Нидернхаузене, — один шаг.
Роман смело можно назвать историческим, хотя события, в нем описанные, еще жгут память. Прошло пятьдесят лет со времени окончания войны — тот срок, который был дан судьбой Толстому, чтобы описать 1812 год. С высоты этого отдаления, как с Поклонной горы, откуда когда-то было видно всю Москву, Толстой увидел то, чего не могли увидеть участники и свидетели тех событий.
Он бросил орлиный взгляд на историю, не придавая значения педантичной точности фактов. За неточности Толстого укоряли, говорили, что он не там поставил полки и пушки, не так описал Бородино. Получалось, что в «Войне и мире» нет правды действительности, а есть лишь правда автора.
Но так всегда бывает в искусстве. Правда автора стоит над правдой реляций и документа. И кто знает, что такое действительность — маневры войск, тактика атаки и контрудара, даты баталий и списки убитых, или еще и то, что думал и чувствовал в сражении — или перед ним, или после него — каждый солдат, оставаясь наедине с собой и с Богом.
Разве это не действительность, не правда действительности? Толстой постиг именно эту правду, и потому мы уже более столетия смотрим на Аустерлиц и Бородино, на Кутузова и Наполеона, на всех, кто жил, любил и умирал тогда, его глазами.
Им постигнут рок событий — вот в чем дело. «В небесной истории, в глубинах внутренней жизни духа, — писал Н. Бердяев, — предопределяется та история, которая раскрывается и развертывается в земной жизни, в земной человеческой судьбе, в земной исторической судьбе человечества, в том, что мы называем земной историей. Это — пролог на небе, подобно тому прологу, с которого начинается гетевский Фауст».
Тяга Владимова к Толстому, к толстовскому масштабу очевидна. Она открыто прокламирована в бесчисленных ссылках на «Войну и мир», в сопоставлении чувств героев Толстого и героев романа «Генерал и его армия».
Толстовский взгляд на вещи — на Бога, природу и общество — далек от взгляда Владимова.
От отдельной жизни, от частной коллизии, от героя-одиночки, в пределах короткого отрезка времени пытающегося понять себя, Владимов должен был перейти к массовым сценам, к множеству людей, к пространству войны, которое нельзя охватить в малоформатной прозе. Переход от этой прозы к роману был для него не менее тяжел, чем переход Суворова через Альпы.
Он требовал недюжинных знаний, обладания богатством фактов, обновленного мышления, меняющего свои тактические пристрастия на стратегические. Не нам судить, был ли этот переход столь же блестящ, как суворовский, но уже одна попытка встать над тем, что ты писал раньше, есть акт отваги. Надо было подняться не только над историей, но и над собой.
Владимовский роман вступал в спор с советской генеральской мемуаристикой, которая если и выдавала какую-то правду о войне, то это была не более чем полуправда или еще меньшая ее часть. Таким спором стало изображение судьбы генерала Кобрисова (главного героя романа), генерала Власова, событий вокруг обороны Москвы в 1941 году, форсирования Днепра и взятия Киева в 1943-м.
Почти одновременно с «Генералом и его армией» писался и печатался другой роман — трехчастное повествование В. Астафьева «Прокляты и убиты», где действие происходит в тех же местах и в то же время. Соседство это оказалось неслучайным. Судьба неумышленно поставила их рядом, и стало ясно, что две эти писавшиеся по разные стороны границы вещи соединяются, как части большой картины, ибо роман Владимова по преимуществу «генеральский», повествование же Астафьева — роман «солдатский». Более того, те обвинения, которые Астафьев бросает от своего имени и от имени солдата Ставке, штабам и полководцам, Владимов реализует в художественном тексте.
В одном из писем Виктора Астафьева, являющемся как бы комментарием к его роману, есть пассаж о Г. Жукове: «А между прочим, тот, кто до Жукова доберется, и будет истинным русским писателем... Ох, какой это выкормыш Отца и Учителя! Какой браконьер русского народа!»
Владимов в своем романе до Жукова «добрался». Он добрался не только до Жукова, но и до других генералов, которые, по выражению того же Астафьева, «сорили солдатами, как песком». На совещании высших чинов армии перед взятием Киева, где игра честолюбий, тщеславия и жажды наград вот-вот должна подавить жалость к солдату, генерал Кобрисов говорит: «Я не палач». Для него взятие Киева «к знаменательной дате» — 7 ноября — означает лишние потери, для его оппонентов — случай выслужиться перед Сталиным, отрапортовав к празднику о своей победе.
Читая роман «Генерал и его армия», мы вспоминаем, что и доблестный Жуков одерживал победы лишь потому, что, как пишет Владимов, ему было неведомо слово «жалко». Только под Берлином он положил треть миллиона, что трудно назвать великой военной операцией.
Кобрисов у Владимова воюет иначе, думает иначе, хочет жить по иным заповедям. Но таких, как он, единицы. И в этом трагизм владимовского героя. Вновь выбирает Владимов себе в герои романтика, человека чести, но на этот раз им является русский офицер.
Впрочем, автор романа не оставляет вниманием и противную сторону — то есть немцев. Он и их хочет увидеть без шор, как видит он генерала Гудериана, отдавая должное его храбрости и уму. Гудериан не стесняется сидеть за столом Льва Толстого в занятой его танками Ясной Поляне и писать на этом столе письма жене и приказы по армии. Но он поднимается и до осознания трагедии русского войска, которое, воюя против Гитлера, объективно воюет за Сталина. В романе нет этой прямой аналогии, но ход мысли автора неизбежно приводит к ней. Действительно, для наших солдат позади Сталин, а впереди — его германский двойник.
Гудериан — немец, и он, воспитанный на книгах Клаузевица, не в состоянии понять, как можно воевать не по науке, без соблюдения порядка, зло высмеянного Толстым в «Войне и мире»: «Айн колонна маршир, цвай колонна маршир!»
Толстовская мысль о хаосе войны, о войне как неуправляемой стихии, над которой не властны никакие приказы, кажется ему ошибкой. Хотя, воюя с русскими, он видит, что так оно и есть: русских боевым искусством не одолеешь — они воюют не по науке, а кладут солдата за солдатом, и в этом человеческом мясе начинают буксовать его танки.
«Железный Гейнц», как зовут Гудериана, у Владимова очеловечен. Он сочувствует русским, чьих близких расстреляли, отступая из Смоленска, сотрудники НКВД. Он, почти как и Кобрисов, не хочет быть палачом ни своих, ни чужих солдат. Очеловечен в романе и генерал Андрей Власов. Владимов сравнивает его судьбу с судьбой святого мученика Андрея Стратилата. Такое и в страшном сне не могло присниться советским писателям — Власов в нашей военной историографии был навеки внесен в списки предателей.
И наконец, в «Генерале и его армии» появляется тема СМЕРШа, тема слежки за своими, не прекращавшейся на фронте ни одного дня. СМЕРШ — самая презираемая фронтовиками организация — показана Владимовым без маски, у СМЕРШа лицо майора Светлоокова — этого рубахи-парня с улыбкой тигра.
Но если говорить о СМЕРШе и заградотрядах, то раньше о них написал Константин Воробьев в повести «Убиты под Москвой» (1963). Я бы мог вспомнить и Василия Гроссмана, и Василя Быкова, и Виктора Курочкина, и Виталия Семина, и Евгения Носова, и первые повести Ю. Бондарева и Г. Бакланова.
Под советскую литературу о войне был подрыт подкоп, грозящий обрушить вознесенное над ним здание. И оно начало разрушаться. Владимовский роман тоже работает на это разрушение.
Была ли война неизбежной? Почему две родственные системы — фашизм и социализм — не могли сосуществовать, а одна должна была пожрать другую? Почему, воюя против собственного народа, Сталин выиграл войну? Сцена в лесу, где Светлооков приказывает без суда и следствия расстрелять русских солдат, освободившихся из плена, отчасти отвечает на эти вопросы.
Ни в одной стране и ни на одной войне не было такой жестокости по отношению к собственному народу. И, пожалуй, не было такого народа, который согласился бы все это терпеть. Война за свободу оказалась и войной за новое закабаление. Оказавшись в историческом капкане, народ должен был выбирать — быть ли ему свободным от Гитлера или свободным от Сталина. Он, защищая свой дом, выбрал первое. Загадка, конечно, в народе, но и не только в нем. Загадка в истории, к тайне которой еще предстоит приблизиться литературе.
Русские в 1812 году сожгли Москву, французы, когда армия Александра I подошла к Парижу, и не подумали этого сделать. Они не сделали этого и когда в Париж в 1940 году вступил Гитлер. Разные нации, разные национальные характеры.
И когда Гудериан, перечитывая в Ясной Поляне «Войну и мир», останавливается на эпизоде, где Наташа Ростова приказывает выгрузить с подвод барское добро, чтоб положить на них раненых, то он думает, что это Наташа объявила войну Наполеону, а не Кутузов.
Выступая на 35-й посевской конференции, Владимов сказал: «Необходимо говорить не только другую сторону, противоположную советской правде, но говорить всю правду». Все, написанное Владимовым, и в том числе его последний роман, есть борьба с «советской правдой» и движение в сторону «всей правды». И усилия его на этом пути трудно переоценить.
Борьба с «советской правдой» отняла у писателей поколения Владимова много сил. Приобретая, в этой борьбе приходилось и терять. Усилия духа тратились прежде всего на отрицание, на критику, на противостояние «всей правды» «правде советской». И при этом «вся правда» теряла в своем объеме.
Ибо ее максимы не исчерпываются отрицанием, критикой и осмеиванием «советской правды». К тому же «вся правда» может легко обойтись без сопоставления с «советской правдой» — ей это кривое зеркало, в которое она могла бы вечно и самолюбиво глядеться, просто не нужно.
Конечно, много значат не только независимость политическая и личная, но и историческая, философская, бытийная, если понимать под этим словом не быт, а бытие. Наверное, для этого нужно быть свободным от рождения, как был свободен Толстой, сумевший в «Войне и мире» подняться над физически осязаемыми фактами.
«Вся правда» — это не правда всех фактов, а правда отбора, сгущения и переработки их в поэтической мастерской творца, который, как Бог-отец, всякий раз заново создает небо и землю.
Литература, писавшаяся, по образному выражению Владимова, «на Азорских островах», совершив прорыв ко «всей правде» и неся потери на этом направлении удара, вынуждена была пережить и еще одну потерю — отставание от хода часов на родине.
Отсюда драма тех, чьи книги оказались бессильными перед лицом стремительно открывшихся архивов, отсюда драма многих, кто, делая честно свою работу по очищению литературы от «советской правды», заканчивал ее уже тогда, когда «советская правда» рухнула в тартарары.
Это драма, но это и победа. Ибо не будь Георгия Владимова и таких, как он, мы, может быть, еще неизвестно сколько времени плутали бы во тьме лжи.
Л-ра: Звезда. – 1999. – № 2. – С. 192-203.
Произведения
Критика