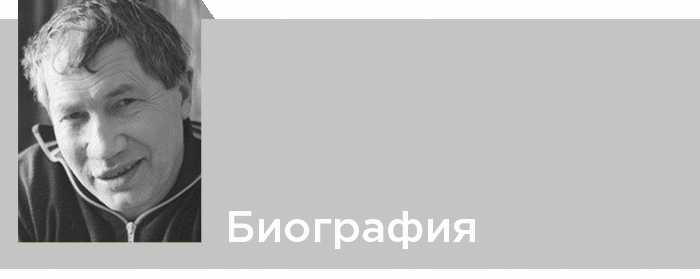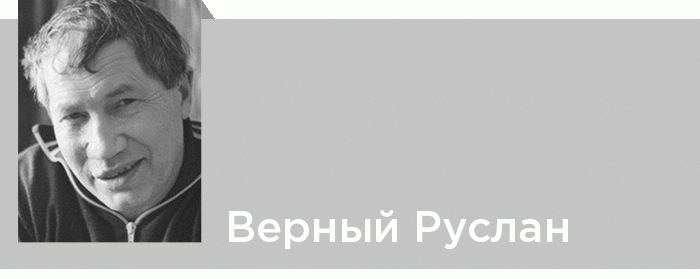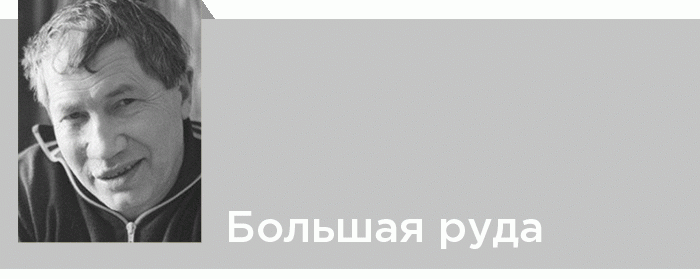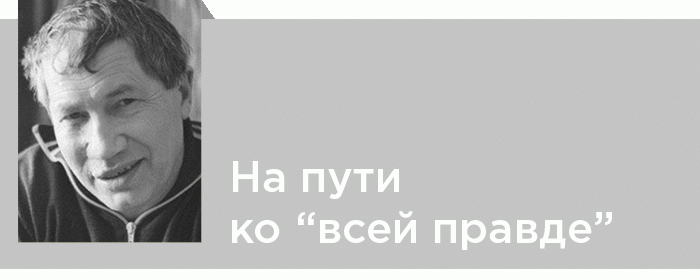Одолевая туман (Заметки о романе Георгия Владимова «Генерал и его армия»)
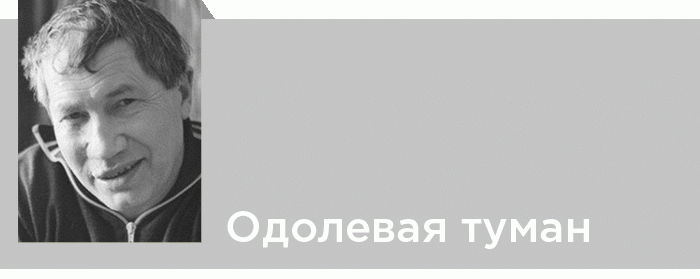
А. Немзер
Есть во владимовских повествовательных зачинах странное сходство. «Сначала я был один на пирсе. И туман был на самом деле, а не у меня в голове» («Три минуты молчания»). «Всю ночь выло, качало со скрежетом фонари, брякало наружной щеколдой, а к утру улеглось, успокоилось, и пришел хозяин» («Верный Руслан»). «Вот он появляется из мглы дождя и проносится, лопоча покрышками, по истерзанному асфальту — «виллис», «король дорог», колесница нашей Победы» («Генерал и его армия»). В «Верном Руслане» надрывный звукоряд, сигналящий о метельном разгуле, превращается в тишину, однако утренний покой обманчив: сияющая снежная белизна сбивает Руслана с толку так же, как дезориентирует человека клубящийся непроницаемый туман. Солженицынские ассоциации в «истории караульной собаки» (синтаксически — безличная, семантически — неясно угрожающая конструкция отсылает к началу «Одного дня Ивана Денисовича»: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака») и ассоциации гоголевские в последнем романе (виллис как птица-тройка, со всеми многосмысленными обертонами этого символа) фиксируются лишь краем сознания, на первый план выходит четкая мизансцена: одинокий герой и окружающее его со всех сторон враждебное, обманчивое «нечто». Руслан недаром не согласен хоть как-нибудь называть то, что «хозяева» именуют «снегом»: для него «оно было просто — белое. И от него все теряло названия, все менялось, привычное глазу и слуху, мир опустел и заглох».
Перволичная форма рассказа в «Трех минутах молчания» естественно мотивирует композиционные перестановки: когда-то еще прозвучит предыстория Сени Шалая. даже имя его вводится как бы ненароком («..даже наколками поменялись. У него (встреченного на пирсе бича. — АЛ.) на пальцах «Сеня» выколото, а у меня — «Вова»), поперву же мы даже не знаем, кто вдыхает портовый туман. Но точно так же будут оттягиваться предыстории в написанных с позиции всеведущего автора «Верном Руслане» и «Генерале и его армии». Караульный пес предстает пред читательскими очами без разъяснений и рекомендаций, мы брошены в повествование, как сам Руслан в кошмар своей новой жизни. Ход, опять-таки отсылающий к солженицынскому рассказу: ужас, растущий из анонимного кошмара первых скребущих, мучающих, угрожающих твоему покою строк, приходит раньше, чем мы различаем в царстве небытия какого-то Шухова, еще не зная, что он-то и есть Иван Денисович, чьего тепла хватит не только на товарищей по несчастью, но и на нас, ошеломленных морозом, желтой фонарной злобой, звоном побудочной рельсы и прочими лагерными «обиходностями». (Контраст очевиден: у Солженицына — зэк, у Владимова — четвероногий охранник; у Солженицына — время лагеря, у Владимова — время освобождения; у Солженицына — человеческая способность сохранить живую душу в условиях крайней неволи, у Владимова — последействие тюремного антимира, губящего всякую жизнь. Мягко напоминая о некоторых особенностях солженицынского повествования, прежде всего — композиционных, и тут же демонстрируя тематическое расхождение, Владимов нацелен, однако, не на полемику с автором «Одного дня...», но, если угодно, на продолжение! развитие его художественной мысли.) В «Генерале» заглавный герой появляется очень поздно: за увертюрой о движущемся по военным дорогам виллисе (покамест — неведомо куда, о цели и причинах движения мы узнаем позже) следуют эпизоды вербовки шофера и адъютанта. Генерал постоянно поминается, о нем-то и хочет «посплетничать» смершевец Светлооков, особенности характера командующего 38-й армией становятся предметом раздумий людей из его «свиты», связанные с ним эпизоды прокручиваются в их головах, с генералом связываются их страхи, недоумения, надежды, — но самого генерала нет. «Фотий Иванович», «Фотий», «командующий», привычки, детали, намеки — ни портрета, ни биографии, ни даже фамилии. Только во второй главе, шагнув в уже далекий от героев сорок первый год, мы вместе с ординарцем Шестериковым впервые видим его — «Кобрисова, когда тот вышел в зверский мороз на крылечко своей избы». Не могу избавиться от диковатой ассоциации — вроде ни к селу, ни к городу, а лезет на бумагу строчка из дурацкого детского стишка: «Вышел месяц из тумана».
Из гаденьких светлооковских провокаций, из помутнений и замешательств вербуемых, из страха шофера Сиротина перед «заговоренным» и несущим гибель своему окружению генералом, из восхищенно-завистливых мечтаний новоявленного «князя Андрея» — адъютанта Донского, из метельного наваждения сорок первого года, когда заблудился вместе с будущим верным ординарцем и едва не погиб заглавный герой, из дотошных описаний фронтового и тылового быта, отступления и наступления, из семьи, московской квартиры, жизнеописующих фотоальбомов, забот Шестерикова, из отражений, коими стали портреты двух других командармов в их звездные часы (Власов, двинувшийся в прорыв, спасающий Москву; Гудериан, отдающий первый приказ об отступлении), вышел генерал Кобрисов, неведомо зачем вызванный в Ставку. Туман редеет, но от того не становится легче. А когда «туман» станет лишь словом — названием дорогой, трудной и бессмысленной операции по переброске войск с плацдарма на плацдарм — операций, уничтожившей гениальный (и спасающий множество жизней человеческих — в том и гениальность) замысел Кобрисова, операции, нужной тем, кто достоин лишь презрительного шестериковского словца «лоботряс» (не важно, сомнительный ли это по-гоголевски «майор» Светлооков или осанистые генералы-маршалы, в чьих мертвеющих душах мало что осталось кроме славолюбия, взаимозависимости и. трепета перед Верховным), когда туман для нас рассеивается окончательно и мы вместе с героями, после ретроспективного маневра третьей главы (военный совет в Спасо-Песковцах, порушивший планы Кобрисова), приближаемся к готовой карать Москве, — вот тогда-то и становится совсем страшно. Нет у генерала армии — три человека осталось, да и тех, как пока только угадывает читатель (убедится позднее), — нет. Он один. Против всеобъемлющего хаоса, прикидывающегося порядком.
Дважды проигрывается в романе эта ситуация. Два генерала двух противоборствующих держав принимают решения. Власов на подмосковной колокольне, вдруг двинувший свою армию в бой. Гудериан в Ясной Поляне, вдруг скомандовавший отступление. И не только сюжетные нити тянутся от этих героев к Кобрисову (без их ни в какую нормальную схему не укладывающихся решений, погиб бы прошитый многими пулями генерал, не было бы ни его дружбы с ординарцем Шестериковым, ни его армии, ни великого замысла, открывшегося на неприметном мырятинском плацдарме, ни той катастрофы, вокруг которой и растет роман). Не менее важны психологические параллели: Кобрисов знает, что его могла найти судьба Власова — не спасителя Москвы, но пленного, обреченного на душевный разлад, вступившего в союз с врагом. Не только на фигуру Кобрисова ложатся тени толстовских Кутузова и Наполеона. (Босой генерал, меланхолично отхлебывающий молоко в крестьянской избе; триумфатор, едущий к армии и застрахованный от простуды.) Гудериан читает «Войну и мир» и подписывает роковой приказ за толстовским столом. Его размышления о том, как же он довел свою армию до ее нынешнего состояния, вызывают в памяти тяжелые раздумья Кутузова после совета в Филях. Гудериан — гений танковой войны, едва ли не символ ее, но как раз любовь к танкам подсказывает Кобрисову его блестящий план взятия Предславля с мырятинского плацдарма. Так во всяком случае понимает дело маршал Жуков, и он прав, но только частью: любовь к танкам у Кобрисова производная от его непонятной Жукову любви к людям, которых надобно сберечь. И не будь у «Железного Гейнца» той же любви, будь он готов противопоставить «русской четырехслойной» тактике («три слоя ложатся и заполняют неровности земной коры, четвертый — ползет по ним») немецкую «аналогию», никогда не совершил бы Гудериан высшего (по Владимову — да и не только по Владимову) поступка в своей жизни. Наконец, именно в связи с Гудерианом звучат столь значимые для владимовской концепции человека слова: «...вдруг он увидел себя со стороны, сверху, бредущим по дну бесконечного оврага (не разглядел ли Гудериана с подмосковной, колокольни Власов? «физически» — нет, «метафизически» — да, и символ верха и низа в смонтированных почти по-киношному эпизодах не кажется случайной. — А.Н.), указывая путь одному-единственному танку, бессильному одолеть совсем не крутой склон. И, уже не колеблясь, он расписался. Впервые обычная его подпись — без имени, звания, должности — показалась ему отдельной от него, чуждой всему, что он делал до сих пор, чего достиг он, чем прославился. Просто человек, голый и беспомощный, — Гудериан...»
Должен принимать решение Сеня Шалай в «Трех минутах молчания»: ему страшно, он не знает всех грозящих последствий, да и действует почти в полузабытьи — но у него есть возможность выбора: расслышать сквозь грозное молчание радиостанций, сквозь не менее пугающий рев шторма голос человечности, обрубить, ни с кем не советуясь, драгоценную рыболовецкую снасть и тем самым дать капитану шанс на спасение гибнущих рядом шотландских моряков — или устраниться, надеясь, что и без него дело сложится по-людски, либо попросту плюнув на погибающих. Выбор Шалая (и других героев морского романа) мучителен, но реален, возможен, осуществим. Гудериан и Власов в принципе могут поступить иначе — они решают сами. За Кобрисова решили. Знает умом полководца и сердцем человека. И нет здесь для Владимова противопоставления: не ведающий слова «жалко» Жуков велик только в безжалостной советской системе, где большая часть генералитета еще бездарней и не менее бесчеловечна, да к тому же и давит на ведущего войну маршала почище, чем стоящий надо всем, всеобщим озверением рожденный и всем страшный и необходимый Верховный. Пусть Кобрисов, «по колено в воде, ища свою подстреленную утку, раздвинет камыши в плавнях, и посмотрит на тот берег, и поразится его зловещему безмолвию, и услышит толчки сердца в висках...», пусть угадает он верный путь не только к великому городу Предславлю, не только ко всей Украине, но и к преодолению треклятой логики гражданской войны, что ухитряется править свой бал и на войне Отечественной, пусть уразумеет, как связана советская безжалостность с крахом сорок первого года, с трагедией «власовцев» и других русских людей, оказавшихся рядом с немцами, с торжеством болтунов и бездарей, интриганов и лоботрясов, обрекших народ на разобщенность и безысходность, — пусть его решат другие.
И все сойдется. Разработки чекистов, помнящих о том, как война спасла Кобрисова от приговора, пролетарский интернационализм, требующий, чтобы «жемчужину Украины» освобождал генерал-украинец, ревность Жукова, зависть генералов, страх перед Верховным, которого надо уверять в его же полководческой гениальности. Нерасторжимая цепь мелких случайностей. Безликое месиво тумана, вдруг ослепляющее сверкающе-холодной ясностью: выхода нет. Все на Предславль — генерал и его из трех человек состоящая армия — в Москву. Оттуда все началось (второе и третье рождения генерала, сперва вырвавшегося из лап НКВД потом — из объятий смерти, служба ординарца Шестерикова, кутузовско-наполеоновские контроверзы, освобождение Отечества от немцев) — там все и кончится.
Как ожидалось, и совсем иначе. Кажется, что туман и ясность — антонимы. Но вглядимся вместе с Кобрисовым, стоящим на горе, которую он ошибкой принимает за Поклонную (тут Владимов прямо-таки демонстрирует свою технологию сдвинутой цитаты), в облако, плывущее от Москвы. «Облако меняло свои очертания, различались на нем то надменная голова верблюда с отвисшей губой, а то журавль с изогнутой шеей и распахнутыми крыльями, и вдруг оно заулыбалось, явственно заулыбалось злорадной ухмылкой Оггрядкина. Той самой ухмылкой, не затрагивающей ледяных глаз, с какой он протягивал на тарелочке жирный сладкий ломоть». «Последний довоенный торт», предлагаемый мерзавцем-следователем, легко отождествляется с двумя звездами (геройскую — на груда, генерал-полковничью — на погоны), что свалились на Кобрисова в миг его (кутузовского? наполеоновского?) крайнего унижения. Ледяные глаза московского чекиста отражаются в «светлоокости» сплетничающего с генеральским окружением «майора», явно примеривающегося к ликвидации командного «кадра». Все повторяется: только что вспоминал генерал, как во время предвоенной истории тягали в органы его тогдашнюю свиту — никто не сподличал до конца, но никто и не открылся отцу-командиру (мы знаем, что и в пору стояния под Предславлем было то же — генерал догадывается; нет, — знает не хуже нашего). Есть жесткая связь между клубящейся аморфностью облака и сверхдетерминированностью ледяного света, межд унизительной зависимостью от мальчишки-чекиста и тошнотворной сладостью подачки. Казнь отложена —а Мырятин взят, русскую кровь пролили наступающие и обороняющиеся, и за безысходной ясностью - новый туман.
Он ведь и не рассеивался. На то и легкие историко-географические сдвиги, учиненные Владимовым. Кому не ясно, что Предславль — это Киев? И что Мырятин — (Сятин, как брякнет, то ли ослышавшись, то ли со зла подмосковный шоферюга) это Пирятин, догадаться легко. И прототипы слегка замаскированных генералов обнаруживаются после пятнадцатиминутного пролистывания доступнейших советских книг (кто такие Черновский и Рыбко, догадаешься и без пособий, если хоть что-то про Великую Отечественную слышал). Зачем же этот морок? А затем, что в туман шагнет генерал, развернув от столичных предместий свой виллис, свою скукоженную армию. Армия, правда, готова обрести свой грандиозный статус. Адъютант даже примеривается к перспективам и предлагает выпить за будущего командующего фронтом. Но генерал, вовсе не чуждый нормального честолюбия профессионала, резко отвергает тост. Не по пьяни, не по обиде, даже не только из-за скорби о погибших. Покуда Кобрисов пляшет и плачет на глазах у собравшихся баб, по толпе идет шепоток о двух его погибших сыновьях. Это не так: у генерала дочери, они живы, а жгучая тоска о так и неродившемся сыне окрасила дорожные раздумья Фотия Ивановича. И все же бабы правы: погибли Генераловы дети, поубивали друг друга — а он не сумел их сберечь. Он. Не со Сталина — Жукова — Терещенки ведь спрос. Генерал может на миг пустить в сердце радость, смешанную с чувством вины и обездоленности, может на миг проникнуться любовью к Большому Брату и с изумлением почти принята» его резоны («Он-то лучше всех изучил, что нужно этому народу» и далее о незабываемом обращении «Братья и сестры!», том самом, что мучает Гудериана в Ясной Поляне). В его возвращении порыв триумфатора неотделим от чувства долга: надо уменьшить жертвы и для того быть на месте. Все есть в «отрадной картине», чудом возникшей пред героями и читателями в осеннее подмосковное утро, — нет только одного. Нет будущего.
Густой тенью проходит по всему роману мотив обреченности Кобрисова, Он чует смерть, а смерть играет с ним в кошки-мышки. Не случайны и страхи шофера Сиротина, и намеки Светлоокова, и участие генерала в форсировании Днепра, удивляющее и раздражающее его коллег. Там его могли подстрелить «как селезня», как ту утку, отыскивая которую Кобрисов угадал мырятинский плацдарм. Ужас той переправы несколько раз возвращается к герою. И кто знает, не пророчество ли это его будущей гибели — крепка мотивная вязь, умелы сослуживцы Светлоокова, да и война не кончилась. Туман. О будущем Жукова и Хрущева, Сталина и мелькнувшего в потоках хрущевского бреха гарного полковника из 18-й армии, Ватутина, Гудериана, Власова, Чарновского (Черняховского), фон Штайнера (Манштейна) сказано, хоть и без Владимова ведомо, как в общем и целом сложились их жизни — судьбы — карьеры. О Кобрисове — ни гу-гу. О его ординарце и адъютанте ни полслова. Только про шофера говорится (да и то мельком), что погубила его деваха из органов. Туман.
А если полистаем энциклопедии и уясним, что более всех похож на Кобрисова генерал-лейтенант Чибисов (Героем Советского Союза и генерал-полковником стал в те же дни и в те же дни покинул свою армию, что билась за Пирятин-Мырятин-Сятин; не репрессирован, умер в своей постели, попреподавав некоторое время военную науку), то опять-таки легче не станет. Ибо куда как не в туман забвения шагнул реальный Чибисов, он же — романный Кобрисов. Тот, кто по мысли Владимова, был великим ненужным полководцем, чуждым сталинско-жуковской военно-государственной системе.
Принципиальная неясность внешне «победного» финала предполагает разные возможности сюжетного разрешения: подстроенная или случайная гибель, тихое почетное устранение (как случилось с прототипом), даже приспособление к режиму. Антитезы мнимые: в любом случае система уничтожила человека. Не дадут жить по-людски, не дадут последовать наставлению, вычитанному у Вольтера и так тронувшему генеральское сердце, хоть и показалось оно ему всего лишь удачным афоризмом для возможной послевоенной речи о сельском хозяйстве. Как же тут возделывать свой сад, если нет в стране своих садов, как и своих армий. Не хватило обрезов в коллективизацию, которую уверенно проводил мало что предчувствовавший Кобрисов. Проводил, круша жизнь того мира, из которого придут в его жизнь самые близкие люди — спаситель-ординарец Шестериков (это в романе заявлено подробно) и жена (о том сказано бегло, но весомо). Не хватило мужества и взаимного доверия, ибо сталкиваются святая уверенность раскрестьяненного солдатика («Не верь им никогда. Не верь ни ночью, ни днем. Не верь ни зимою, ни летом. Ни в дождь, ни в ведро. Не верь им и когда они правду говорят!») и эта самая подлая «правда», которую подсовывает Шестерикову Светлооков, чьи предшественники послали Кобрисова, скорее всего — расказаченного, проводить линию партии. И разбегающимися рифмами, а то и диссонансами к тому эпизоду вся власовская линия романа, все недоумения Гудериана в Орле и смертная тоска, навалившаяся на генерала на Поклонной: «Да, может статься, вся история России другим руслом бы потекла, если б отказывались мы есть и пить со всеми, кого подозреваем. А может, на том бы она и кончилась, история, потому что и пить стало бы не с кем, вот что со всеми нами сделали».
Нет выхода из этого замкнутого круга, ведомого уже «человеческим» персонажам «Верного Руслана», Стюре и Потертому, что за бутылкой толкуют о том, каких гнид из нас понаделали. Нет выхода, как в той повести, где последним уделом слишком серьезно относившегося к службе пса, стал уход в злое небытие, в вечный гон по команде могучего хозяина. И это печальнее, чем отнятая слава и неизбывная собственная вина. Как ни повернись, все худо. Это Сене Шалаю было где прикорнуть перед выходом в очередной рейс. Он мог серьезно относиться к испохабленному (а в сущности — верному) тезису: «Стране нужна рыба» — тезису столь схожему с несбыточным, вольтеровским, кобрисовским.
Генерал и его армия исчезли. Померцало смыслами такое простое название, то наливающееся мощью полков и дивизий, гремящее танками и артиллерией, то сжимающееся в троицу замороченных и готовых оступиться людей, то вовсе сходящее на нет и дразнящее еще одной игрушечной аналогией, еще одним детским стишком. О том, как вся королевская конница и вся королевская рать не могут собрать разбившееся яйцо, ликвидировать свершившееся и непоправимое. Генерал ничего не добился, и даже дружба с лучшим на свете ординарцем дала маленькую (но от того не менее угрожающую) трещину. Туман сомкнулся, дабы выступила из него ясная картинка, в которой всем есть место — кроме генерала, что не выиграл войны и не обустроил мира. Он только хотел этого. Так мало. Так много.
В «Трех минутах молчания» все кончилось счастливо. В «Верном Руслане» — горше некуда. В «Генерале и его армии» — густым туманом, с которого все и началось. Но не финалами меряются большие книги. Люди могут и не выдержать натиска зверско-машинной, льдисто-туманной, кнуто-пряничной структуры, могут даже стать шпунтиками дьявольской махины, но это вовсе не значит, что они никогда и не были людьми. Были. И не все погибли в квалифицированно организованном тумане.
Л-ра: Звезда. – 1995. – № 5. – С. 184-188.
Произведения
Критика