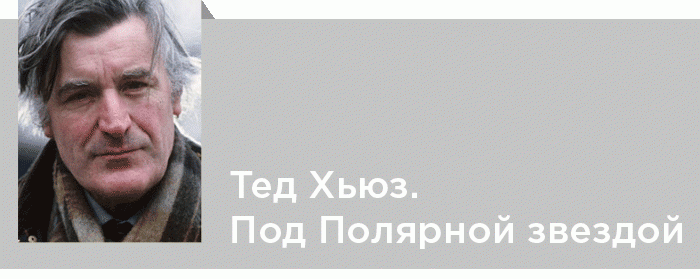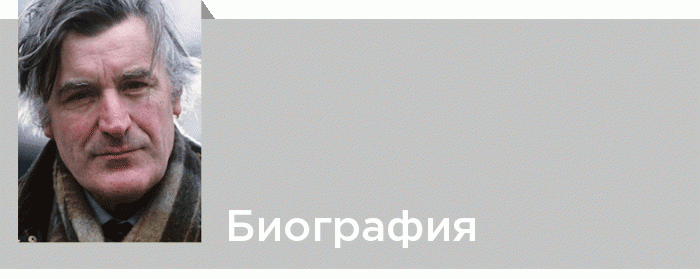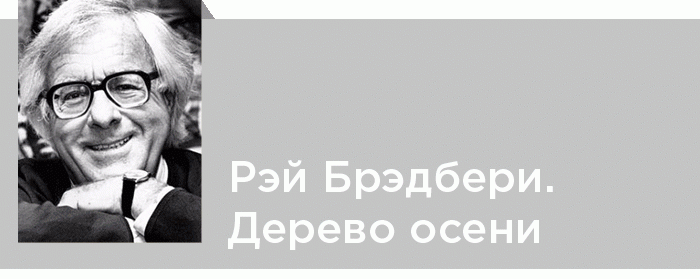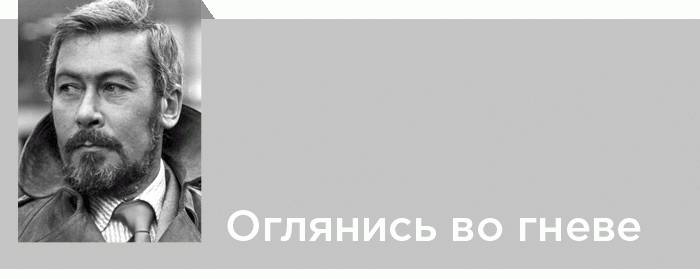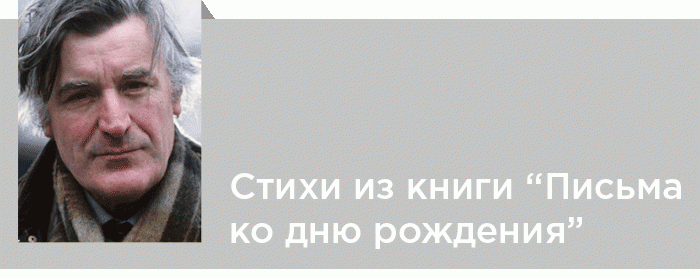Своеобразие воззрений на природу Теда Хьюза
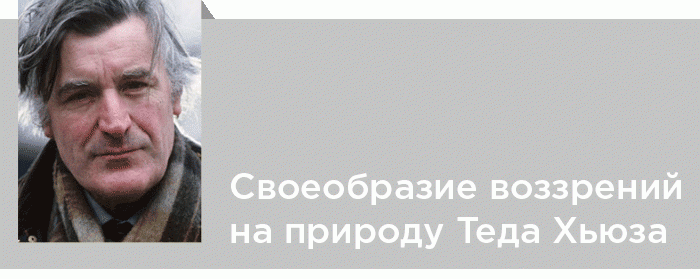
Е.И. Ветрова
Тед Хьюз дебютировал в
Экологичность поэзии Хьюза проявляется во всем творчестве поэта и находит выражение, в частности, в выборе объектов изображения (в большинстве случаев это картины природы, запечатлевшие образы птиц, зверей, растений, ландшафта), в использовании системы приемов, включающих эффект воздействия синтеза искусств: поэзии, анималистической живописи (Леонард Баскин), художественной фотографии (Фэй Годвин, Питер Кин) и искусства оформления печатных изданий — многие его сборники представляют собой «видовые» альбомы, своеобразные атласы растений, животных, ландшафтов, что определяет особый характер изобразительности. Поэтический и изобразительный планы комментируют, дополняют друг друга или сливаются, в результате чего происходит как бы «воскрешение» панорамной, стереоскопической картины окружающей среды.
В процессе поэтического воссоздания живой природы Хьюз уделяет внимание в основном трем моментам: зачатие — рождение — смерть. Причем смерть занимает в произведениях первого периода творчества Хьюза (50-е — начало 70-х годов) важное место. Именно через эстетизацию смерти утверждается уникальность жизни. Естественная смерть противопоставляется сознательному убийству на войне или — в результате единичного акта жестокости. В стихотворении «Псалом тигру» борьба зверя за выживание, его победа над жертвой контрастируют с «тарахтящей статистикой пулемета», полным безразличием к жертве машины убийства. Противопоставление ярости тигра, напряжения всех его сил, вдохновенного стремления к победе и, наконец, определенного снисхождения к жертве («тигр убивает и тщательно вылизывает добычу») и бездушия при нажатии курка усиливает ощущение циничности и кощунственности акта уничтожения человека человеком. Высшая целесообразность всего живого, совершенство жизни, пусть даже в наименее приятных ее проявлениях (поэтический мир Хьюза отличается дисгармоничностью), подчеркивается звучанием зловещих образов атомной войны, ядерного взрыва, угрожающих самому существованию планеты («Женщина, потерявшая сознание»). Запечатленное во многих произведениях единение малой твари и огромного космоса, раскрывающее с помощью своеобразной метафоры органическую связь всех компонентов в природе, делает идею мировой войны абсурдной, а опасность ядерного уничтожения абсолютной.
Противопоставляя смерти жизнь, Хьюз нередко эстетизирует такие формы жизнедеятельности, как насилие, кровопролитие, за что на Западе его часто называют поэтом жестокости. Известно, что поэт отрицает такую трактовку его стихов. «Я рассказываю о жизненной силе, а не о жестокости. Животные не жестоки, они просто гораздо больше подвержены контролю со стороны человека. Настолько же они более приспособлены к своей среде». Составляя своеобразный «поэтический комментарий к тотальной жестокости цивилизации», Хьюз, по замечанию Фааса, «скорее этологический моралист, чем свидетель жестокости». При описании кровопролитий, смертельных схваток зверей в борьбе за выживание поэт оттеняет нечеловеческую жестокость человека. Неоднократно изображая единичные смерти зверей, птиц, растений и часто напоминая о тщетности жизни («Выдра», «Чертополохи», «Хэптонстолл»), автор вызывает чувство сострадания к живому, ощущение неистребимости жизни, уважение к стоицизму природы, живущей согласно категорическому императиву: «...не умереть... взбираться вверх, лететь, петь, быть послушным смерти» («Жаворонки»). Жизнестойкость, стоицизм природы нередко передаются с помощью образов войны и битвы. Изображаемым объектам часто даются также весовые характеристики. Введением «металлических» эпитетов и сравнений подчеркивается ощутимость тяжести веса малой твари или растения. Так, хрупкий подснежник, «подобно бобру и ворону... преследует свою цель/ жесткий, как звезды в этом месяце,/ его бледная головка — тяжелый металл» («Подснежник») (см. также: «Чертополохи», «Дрозды» и др.).
Хотя в большинстве произведений 50-х — начала 70-х годов человек практически исключен из плана изображения (как пишет Болд, поэзия Хьюза «менее всего антропоцентрична»), он неизменно присутствует как участник «немого» диалога с природой, активно сопереживая всему происходящему. Коммуникативное значение «психологических» пейзажей и «портретов» животных передается с помощью «атакующего» эмоционального языка его стихов, изобилующего метафорами с использованием лексики физического восприятия и действия («дышит чуть шевелясь солома», «струится тяжелый запах», «мерцают тетерева», «в пригоршне пенится петушиное пение», «пристальный взгляд луны» и т. д.). Важную роль в раскрытии животно-биологической сущности зверя или птицы играет динамика художественного пространства и времени. Характерно замедление динамики изображения наиболее стремительных движений в «портретах» хищных животных. Так, в стихотворении «Ягуар» поэту удается запечатлеть затяжной прыжок зверя — характерное движение хищника семейства кошачьих — путем расширения метафорического пространства клетки, в которой томится ягуар: «Просторы земли плывут под упругим нажимом лапы/за гранями грязного пола огромный встает горизонт».
Своеобразное общение природы с человеком осуществляется через зрительные и слуховые каналы чувств, природа с картин Хьюза как бы внимательно следит за человеком, смотрит — с немым укором или недоумением (стихи о ягуарах, «Вудву») и прислушивается к нему: «...я забредал все глубже в воду, и рыба слушала меня, следила за каждым моим движением» («Темной ночью»); «Глаз пумы вспыхивает, как бриллиант» («Пума»); «Горы смотрят, как мумии мамонтов в вечной мерзлоте, на рекламу кока-колы» («Овцебык»); «Снежная буря с огромными глазами... засмотрит планету насмерть... земля сжалась, зажмурив глаза от страха» («Полярная сова»). В сборниках последних лет («Под северной звездой», «Река»), ведущими мотивами которых являются ностальгия человека по природе и идея земли как сообщества, человек внемлет окружающему миру: «Я наклоняюсь и смотрю на воду, пока мои глаза не растворятся» («Нерест»), «Смотрю на медведя, выползающего из норы» («Гризли»).
Важной чертой изобразительности поэзии Хьюза является то, что человек и природа в его стихах выступают в качестве метафоры друг друга. Изображения и характеристики людей даются через пейзаж или «звериные» аналогии, используются персонификации («Мотоцикл»), динамика направлений движения. В изображении стариков («Краунпойнтские пенсионеры») большую роль играет контраст горизонтали и вертикали, передающий «гравитацию» старости.
И, наоборот, сквозь изгибы ландшафта в стихотворении «Холдернесс. Майский вечер», которое Болд назвал «автопортретом в ландшафте», проступают очертания человеческой фигуры, подобно тому, как в пустыне Наска в Перу с высоты птичьего полета различимы начертанные неведомой рукой гигантские силуэты животных. Поэт клеймит жестокое собственническое отношение человека к природе, а следовательно, и к самому себе. Тема ненасытности общества в использовании природы перекликается с темой войны и загрязнения атмосферы. С целью усиления обличительного пафоса широко используются развернутые метафоры, гиперболы, сравнения («И, словно огромный всесильный паук, словно солнце, словно печь крематория, я завладел миром»). Полифония этих же мотивов слышна в стихотворении «Отставной полковник»: «...типичный бур начала века, старый калека... римлянин гордый... рядом — последний английский волк/...последний осетр — вот и вся старина».
Пейзажи Хьюза отличает особая (пожалуй, языческая) одухотворенность. Пафос ответственности за судьбу планеты подкрепляется экскурсами в историю человеческого сознания, вплоть до первобытных представлений. Предпринимается попытка создания образной картины мира как бы в преломлении первобытного восприятия. С этой целью, например, поэт вводит фантастические («калибаноподобные») образы («Вудву», «Гог», «Дьюдонг»), «Хьюз верит в конкретную реальность мифа... Миф для поэта — одновременно и реальность, и вымысел» (Фаас). Это придает изображению пейзажа или животных своеобразную убедительность. Метафизичность представлений Хьюза преодолевается воздействием созданных им образов, раскрывающихся со всей психологической глубиной. В цикле стихотворений «Останки Элмета» запечатлена агония долины Колдера — оплота последнего кельтского королевства Элмета. Напряженность пейзажа выражается в словно бы зафиксированном в одно мгновение и приостановленном порыве, что достигается, например, сопоставлением противоположных сдерживающих друг друга яростных движений («неистовые нападающие рванулись к летящему вдоль ворот вратарю» — «истово-синие склоны долины бессильно сникли под прессом Атлантики» («Футбол в Слэке»), Впечатление подкрепляется черно-белыми фотографиями Фэй Годвин, передающими приглушенность и угасание прикиды, что в целом отражает драматизм отношений между человеком и пейзажем, настоящим и прошлым, социальными и естественными процессами.
Благодаря частому использованию «космического» ракурса, в поле зрения поэта попадают географические и геологические реалии («метеориты», «торфяные болота», «вересковая пустошь», «дренажная вена», «течение», «дельта», «Западный Дарт», «Гулькана»), что позволяет Хьюзу передать внутреннюю напряженность планеты, в частности в районе Британских островов. В этом отношении, например, характерны его «наблюдения» такого рода: «...река напрягает свои силы... облака поднимают якоря... земля чувствует свою тяжесть» («Четыре мартовских акварели»).
Напоминанием о прежних представлениях человека, о «детстве» Земли стало стихотворение «Вудву». Забредшее из легенды о сэре Гавейне в наш век кентавроподобное чудовище Вудву наделено обаянием Иети — громадного, неуклюжего, любопытного и безобидного существа. Трогательная непосредственность незамутненного сознания Вудву, пытающегося понять окружающий мир и самого себя, передается имитацией детской риторики с характерными повторами и переспросами, обилием вопросов, примитивной логикой, запечатлевших трагизм неуместности и устарелости наивных нестандартных представлений в наш рациональный век («Как зовут меня? Может я родоначальник/ чей я чье подобье, на кого похож/ огромен ли я если дойду/ до конца дороги мимо тех деревьев/ устану — значит здесь положен предел...»).
Своеобразие экологичного мышления автора находит отражение в сопряжении этологического, аллегорического и символического планов, что обусловлено, в частности, тесной связью поэзии Хьюза с мифологией и влиянием тотемизма. Образы природы нередко используются в качестве символов. Так, образы ночи, темноты, моря обычно представляют иррациональное, инстинктивное начало. Крабы, выползающие ночью на сушу, олицетворяют силы войны: «...гигантские крабы под плоскими панцирями уставились на землю» («Крабы-призраки»), «Межпланетная торпеда» («Щука — маскинонг») — символ неистребимости зла. Согласно эскимосским преданиям, Ворон — аллегория мирового хаоса и вечного зла. Полярная сова — символ мудрости и света. В стихотворении «Полярная сова» (NS, 16) магическая сила птицы-божества передается гиперболическими метафорами, запечатлевшими гипнотический взгляд янтарных глаз («снежная буря... засмотрит планету насмерть... из Черной дыры Севера ледниковый век вылетает») и образами «несказанной» красоты, составляющими с живописным изображением (картина Баскина) единое целое. В воссоздании сказочной и в то же время естественной красоты важную роль играет цвет. Описание совы строится на контрасте неподвижной белизны Северного полюса, вечного льда, снежной вершины и бурлящей «живой» снежной бури. Необыкновенный (серо-белый) оттенок пуха птицы, почти сливающейся с фоном, подчеркивается сравнением с белизной более гладкого меха зайца.
Яркие и достоверные изображения животных оттеняют те или иные качества человеческой природы, не становясь при этом аллегорией.
Остановимся на произведениях, в которых доминирует этологическое начало. Описывая зверя, поэт стремится выявить сущность животного, показать средствами поэзии его неповторимость как представителя вида или конкретной особи. В изображении хищников поэт раскрывает неповторимую красоту сильного зверя. Особую роль здесь играет динамическое художественное пространство.
В начале стихотворения «Второй взгляд на ягуара» зверь показан крупным планом, натуралистически выписаны детали («Весь в шарах мускулов, он перекатывает их под шкурой... кости бедер так и ходят в костреце, отчего хребет западает»), в напоминаниях о жертвах, в описании характерных повадок и движений («грузно ступает, похожий на могучего ацтека»), образах огня раскрывается дикая сила хищника. Правдивость и достоверность изображения достигаются сочетанием натуралистического и гиперболистического описаний. Устремленность рвущегося на свободу зверя и нервность заключенного в клетку невольника передаются с помощью описания характерного раскачивания головой из стороны в сторону. Эффект этого движения воссоздается с помощью сопоставления движений головы и тела, причем изображение этих деталей дано как бы в отрыве друг от друга («голова у него словно бы пришита, взятая у другого ягуара / и тело, будто машина, толкает ее вперед»), благодаря чему возникает кинематографический образ носящегося в волнении по клетке животного. Иллюзия большого пространства, которое предполагает описание величественного зверя, внезапно разрушается напоминанием о прутьях клетки, вследствие чего восприятие переходит из плана немого восхищения в план сострадания: зверь заперт и является жертвой. Именно в этой точке поэтической картины объем изображения расширяется, увеличивается дистанция между читателем и объектом, и дальнейшее описание ягуара идет как бы со стороны. Обреченность зверя подчеркивается его уподоблением скрученной спирали, напоминающей о неизменно ровных прутьях клетки. Контраст стремительного движения, сверкающих огненных глаз, мертвого холода и неподвижности бетона и металла усиливает ощущение невыносимости заключения.
Обычно Хьюз не приводит своих суждений о животных, он пытается проникнуться жизнеощущением зверя и соответственно передать это ощущение читателю.
В стихотворении «Мысль-лиса» аллегорическая «лиса» нашего воображения представлена, как замечает А. Болд, «с прекрасной ощутимой лисьей реальностью».
В изображении специфических движений и повадок раскрывается разумная сущность животного. Для заключенного в клетку и бегущего сквозь прутья ягуара — это память о свободе, которая не дает ему погибнуть. В сочетании инертности и кровожадной жестокости с величественной огромностью живущего в «глазу горы» гигантского медведя — непостижимая для человека глубина замысла природы: «Медведь — лесной колодец / где дно недостижимо / и где твой крик не прилетит назад» («Медведь»). Иносказательный образ отражения в лесной реке содержит аллюзию на возможную трагическую общность судеб человека и природы: «Медведь — река лесная. В ней видим, наклонившись, мы мертвыми себя». Непостижимость для человека дикой природы позволяет поэту утверждать ее высшую целесообразность и бесценность: «Как небу над землей, медведю нет цены».
В стихотворении «Косули» зримость картины создается сочетанием световых («грязноватый цвет рассвета», «голубые пятна косуль в темноте», «белоснежное поле», «темные деревья»), тактильных («кипение снежинок», «снежный вихрь», «скольжение косуль по снегу») и звуковых контрастов (предполагаемый шум мотора внезапно остановившейся на дороге машины, тишина поля, подчеркиваемая картиной падающего крупными хлопьями снега, робко приближающихся к машине любопытных животных). В изображение вводится выхваченная «объективом» художника стереоскопическая перспектива. В свете фар едущего ранним утром по пустынной заснеженной дороге автомобилиста — две косули. Звери на мгновенье останавливаются, приближаются к машине (от их движения раскачивается занавеска, так что можно рассмотреть рога), а затем исчезают в снежной мгле. Замедление темпа изображения осуществляется за счет суггестивности лейтмотивных образов, использования лексики, передающей переходность физических и психологических состояний (удивление автомобилиста, внезапный испуг косуль), и исконно-английской лексики, состоящей преимущественно из односложных слов (ритм корневых морфем): The deer had come for me. / Then they ducked
through the hedge, and upright they / rode their legs.
Стихотворение обрамлено образом падающего крупными хлопьями снега, вследствие чего возникает эффект постепенного погружения всей картины в снежную мглу.
В изображении домашних животных преобладает пафос сострадания, сопереживания бедам животных, стремление освободить «закрепощенный дух» («Овца», «Взгляд на свинью»). Иногда, чтобы разбудить человеческую совесть, поэт прибегает к жестоким приемам: в стихотворении «Крысья пляска» Хьюз подвергает читателя «пытке» звуком и «кровавыми» образами: «хрусткий лязг», «заходящийся злобой визг», «задышливый хрип», хруст раздавленного стальными челюстями крысоловки тела крысы. Эффект усиливается изображением неприятного животного.
Коллективный разум животных запечатлен в стихотворении «Комариный псалом». Олицетворением мести природы здесь является образ комариной стаи, которая пьет человеческую кровь. Богатство метафор, метонимий, сравнений («комары ткут закатный танец», «стая дрожащих точек взрезает воздух загадочными письменами»), гипербол («танцующие насмерть Хасиды», «мерцающая мощью Галактика») в сочетании с лексикой, передающей прежде всего тактильные и слуховые ощущения («когтистые пальцы трав», «прохладная тень зеленых ладоней платана», «солнце сжигает их песню», «струнные страдания трав», «синяя тень листвы»), лексическими и синтаксическими повторами, подчеркивающими нарастающую назойливость и агрессию («их крылья сбивают жар / жужжат / жужжат... И висят над когтистыми пальцами трав / танцуя / танцуя... Ваш танец, / ваш танец / нежно обнажает мой череп»), создает ощущение мощного гипнотического воздействия мерцающей, едва различимой гудящей массы. Человек утрачивает свою силу, становясь вялым, никчемным. «Кипящая буквами безумной азбуки» стая как бы заполняет собой все биологическое пространство, поглощая и человека.
Важный способ постижения живого у Хьюза — подражание животным. В стихотворении «Мысль-лиса» легкий запутывающий лисий шаг вымышленного животного, заползающего в нору человеческого сознания, передается имитационным ритмом односложных слов, характерных для лексики стихотворений Хьюза (как правило, это слова германского происхождения, восходящие к древнеанглийскому языку):
Sets neat prints into the snow
Between trees, and warily a lame
Shadow lags by stump and in hollow
Of a body that is bold to come.
В поэзии Хьюза часто встречаются образы погибающей природы, как бы «предрекающие» возможную трагическую участь человека: «последний английский волк», «последний осетр» («Отставной полковник»), «глубоководная рыба слушает меня в умирающей реке» («Вчера вечером»). Отчуждение человека от природы, по мнению Хьюза, — самоубийство, «эволюционный тупик». Идея эфемерности, иллюзорности существования человека вне природы запечатлена в образах пустоты, квази- и антимира («Итак появилось Ничто. Его поместили в ничто и добавили пустоту» — «Колдовство на небесах»). Мертвенно бледны, как штукатурка, освещенные неоновым светом лица посетителей ресторана («В ресторане М5»): «Наши грустные пальто набросаны кучей в углу... / одутловатость прокисших лиц... / Символическая пища, / поедаемая символическими лицами, / которые делают символические глотательные движения /. Грохот дороги за стеной, / отбивающий барабанным боем в висках. / Дорога в никуда... Ищу более материального воплощения / с помощью иллюзорного кофе / и квазипирога».
Мир животных, воссоздаваемый Хьюзом, помогает глубже понять человеческую природу, оттенить негативные стороны человеческого общества — агрессивность, жестокость, собственническое, потребительское отношение к природе. Изображая зверя, птицу или растение, поэт постоянно подчеркивает невозможность полного постижения природы, а потому призывает к уважительному отношению к ней. Путь постижения зверя не в укрощении или приручении, считает Хьюз, но в тонком цивилизованном понимании животного. Так, общение с львицей, пишет поэт в предисловии к книге Джой Адамсон «Живущая свободной» — «это не столько шаг в воспитании львицы, сколько в воспитании человека». «Бремя» понимания, выбора и сомнения, лежащее на человеке, разочарованность и неуверенность человека современного мира в завтрашнем дне как бы уравновешивается в поэзии Хьюза стоицизмом и жизнестойкостью природы.
В сборниках «Муртаун» (1979), «Под северной звездой» (1981), «Река» (1983) мрачные и темные образы постепенно вытесняются картинами прекрасной и вечно живой природы. Образам разрушения и смерти противостоит образ «бога-реки, которая смоет с себя все смерти» («Река»). Интонации и образность сборника «Река» свидетельствуют о появлении новой темы — земли как сообщества: мягкие и доверительные модуляции авторского голоса в зачинах стихотворений, собирательное лирическое «мы» [«Мы пришли туда, где было много лосося» («В то утро»). «Войдите в воду, бредите по воде» («Идем ловить рыбу»)], образы содружества людей и зверей [«к нам спустились два золотых медведя и поплыли, как люди, рядом с нами. Они ныряли, как дети»], людей и деревьев [«Мы — деревья, мы — высокие, солнечные, немного покалеченные... давайте радоваться братству выживших, надежде появления нового листка» — «Четыре мартовских акварели»], человека и реки («Река», «Темной ночью»).
Ступни ног («Ступни») — символ органической связи природы и человека, организм которого идеально приспособлен для жизни на земле: «...ступня, прижатая к земле, плоская, теплая, с нарисованной на ней картой судьбы, помнит о своем первом прикосновении... Я создана для тебя, земля».
Приверженности идее солидарности с живым выражается и в том, что Хьюз заселяет живыми существами и космос (детские сборники «Лунные киты и другие лунные стихотворения», «Лунные колокольчики и другие стихотворения»).
Важную роль в воссоздании естественной среды и передаче локальности играют образы стихий и погоды. Климат поэтической вселенной Хьюза, подобно климату Англии, океанический с обилием атмосферных осадков, неустойчивой погодой, с частыми сильными ветрами. Образы влаги, дождя, морского ветра — наиболее частые атрибуты пейзажей Хьюза. Тревога за судьбу планеты, судьбу своей родины звучит в стихотворении «Ветер». Англия уподоблена фрегату, несущемуся сквозь бурю, дому, что звенит, «как тонкий зеленый бокал», готовый разбиться под натиском шквальных ветров. В стихотворении появляется образ охваченных страхом соотечественников, пережидающих стихийное бедствие:
...Перед камином Сидим, валится книга из рук, Силимся думать — волю сковал Пляшущий пламень. Чувствуем — давно Движутся корни дома. Все же сидим. Слышим вопли камней вдалеке. Видим — ломится ветер в окно (перевод С. Бычкова).
Образами искривленного горизонта, налетающих отовсюду штормовых ветров (в стихотворениях Хьюза встречается также образ «ветра, дующего из замерзающей Европы» — «Пополнение потомства») подчеркивается ограниченность территории небольшой островной страны, оторванность ее от Европы и отчужденность материка. Образы погоды в стихотворениях Хьюза выражают зыбкость и неустойчивость современного мира, «неуютность» Великобритании и неприкаянность человека в ней.
Анализ поэтических произведений Хьюза позволяет говорить о переосмыслении поэтом жанров пейзажной и анималистической лирики в свете экологичного гуманизма. Своеобразный «выход» из экологического тупика поэт видит в воссоздании средствами поэтического языка окружающей среды и эко-общении.
В сборниках последних лет («Река» и др.) важную роль играет образ земли как сообщества, утверждаются основные принципы содружества человека и природы: любовь-гармония, непосредственность, «биологичность» (т. е. «общение двух живых существ — человека и Природы»). Подчеркивая органическую связь всех компонентов в природе, поэт выдвигает единственно возможную перспективу существования человечества — жить в мире между народами и во взаимопонимании с естественной средой.
Л-ра: Филологические науки. – 1989. – № 6. – С. 67-71.
Произведения
Критика