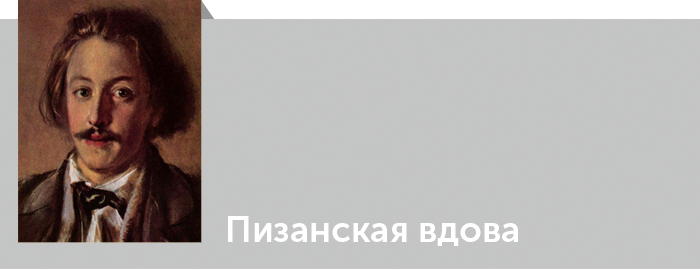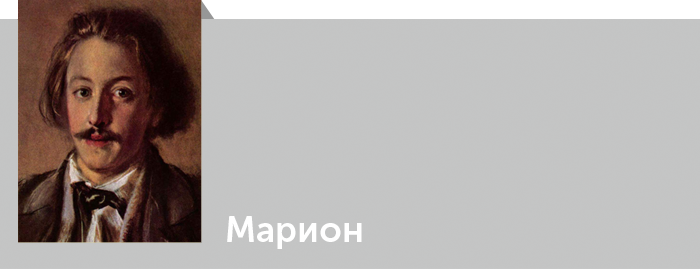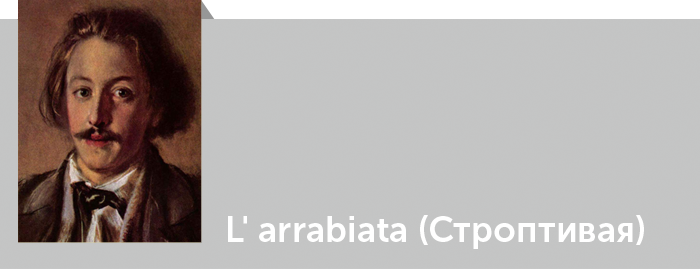Последний кентавр. Пауль Хейзе
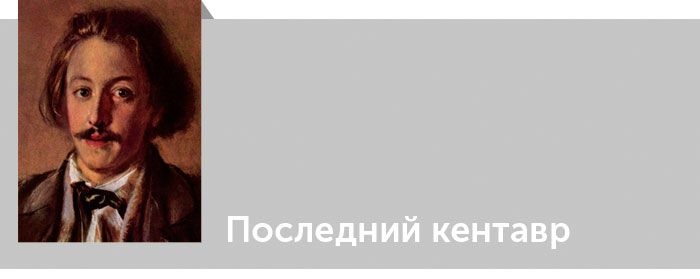
На колокольне Фрауэнкирхе1 пробило полночь. Я возвращался из компании, где вялую, скучную беседу безуспешно пытались оживить при помощи хорошего вина. Голова моя становилась все горячей, а сердце остывало. В конце концов мне удалось ускользнуть в теплую летную ночь, и теперь я бесцельно бродил по освещенному луной мертвому городу, чтобы развеять досаду о напрасно потраченных часах. Пройдя по Фрауэнштрассе мимо чудесной церкви и свернув в переулок Кауфингер, я внезапно остановился.
Передо мной возвышался трехэтажный дом с темными окнами, хорошо мне знакомый с его выступающим углом и синим фонариком над входом. Какие незабываемые ночи проводил я здесь более десяти лет тому назад, за напитком, быть может, и похуже, чем сегодняшний, зато в самых задушевных и пылких беседах. На резной деревянной вывеске, которую поддерживали две кариатиды, было написано: «Винный погребок Августа Шимона».
— Да, — подумал я, — времена меняются, и мы меняемся вместе с ними! Когда-то это имя раз в неделю собирало нас вместе. Но куда делся его хозяин — дородный человек с курчавыми волосами и лукавыми глазками? Счастливая звезда сияла для него лишь над этим домом. Когда же Август покинул свой трактир ради работы в каком-то роскошном отеле, дела у него пошли под гору, и все кончилось весьма плачевно. Его доверчивость, а может быть, фантастическая страсть ко всему рискованному, которая роднила его с некоторыми посетителями, втянула его в чьи-то безрассудные спекуляции. Август был идеалистом среди трактирщиков, и мне дороги воспоминания о нем, несмотря на его вина, о которых мой друг Эмануэль2 сочинил прелестный стишок на мотив «Dies irae»3:
Шимон скор на угощенье.
Пей, но помни: пробужденье
Пуще адова мученья!4
Сейчас дела ведут наследники, и вина, должно быть, стали значительно лучше и делают честь старой фирме. Но разве могут самые прекрасные вина заменить старых добрых друзей, которым не суждено их более отведать. С какой охотой они отдали бы сейчас печальный напиток Леты или даже нектар бессмертия за парочку бутылок того темно-красного венгерского вина, ведь с этой «чашей роковою» мы нередко приветствовали здесь «неведомый рассвет»5. Да я и сам согласился бы претерпеть все утренние мучения, если бы еще раз мог увидеть, любезный Генелли6, как ты сидишь за столом в низком, прокуренном винном погребе, чуть оттопырив полную нижнюю губу, что придает тебе выражение то ли радости, то ли упрямства, а в глазах твоих лучится чудесное детское веселье. Тогда ты еще не был веймарским профессором у великого герцога7 и еще не нашел своего мецената в лице барона фон Шака8, благодаря которому после десятилетних надежд и ожиданий наконец смог воплотить в красках наброски, сделанные в юности. Ты жил в скромной квартирке около городского сада, и общество богов и героев помогало тебе забыть этот свет, который забыл о тебе. И даже если ты не всегда мог заплатить за карандаши, которыми набрасывал изящные контуры своих снов и мечтаний о греческих богах, я никогда не видел и тени земных забот на твоем олимпийском челе. Подобно горной вершине оно возвышалось над тучами, сияя в вечном эфире. И пускай житейские хлопоты неотступно преследовали тебя, раз в неделю ты направлял свой шаг к этому дому, чтобы смыть вином налет пыли и плесени, что оседали на твоей душе. Ценил ли славный Шимон честь, которую ты ему оказываешь? Я не припомню, чтобы ты платил ему подобно другим смертным. А уходил ты одним из последних, но твердой походкой и с высоко поднятой головой, неуязвимый для воспетых Эмануэлем утренних мучений. Возможно, потому ты и был дорог нашему хозяину, что защищал веру в неподдельность его красного венгерского пылкостью своих речей и своим примером.
Прекрасные, благоуханные ночи, когда сомнительный нектар уводил тебя от бед настоящего в римскую юность! И когда гармонично сливались поэзия и правда, к нам спускались тени влюбленных в Италию мастеров, верных идеалам Винкельмана и Карстенса9. Приходил странный поэт и странный художник, несмотря на переиздание его трудов, известный сегодняшней публике как «художник Мюллер»10, да и то лишь со слуха. Генелли нравилась его надпись на сосуде для питья:
Пей, мой друг, из этой чаши,
На пиру, хмелея,
Бог вина слепил ее
По груди Кифереи11.
Или тиролец Кох12, о восхитительных пейзажах которого вспоминают, к сожалению, реже, чем о его «Румфордском супе», этом сердечном излиянии о падении искусства, изрядно наперченном жестокой шуткой и язвительной насмешкой. Наш друг с удовольствием цитировал некоторые излюбленные места оттуда. И наконец, Рейнхард13, славный мастер в своем роде, но, пожалуй, более удачливый охотник, а не художник. Я все еще слышу рассказ Генелли, как однажды этот старый Нимрод14 вернулся в сумерках домой с пустой охотничьей сумкой и последним патроном в ружье. Он вошел в полутемную комнату, жалея о потерянном дне, и вдруг заметил, что на столе будто что-то шевелится. В неутоленном пылу охоты Рейнхард, не раздумывая, сорвал с плеча ружье, прицелился и выстрелил. А когда подошел поближе, то увидел кусок сыра, сквозь который прошла пуля.
— Да это одна из так называемых охотничьих баек! — заметил среди общего смеха невысокий сухой человек, художественный критик, тяготевший к реализму15, но все же часто подсаживавшийся к столу насмешников-идеалистов. — Уж не призываете ли вы нас, Генелли, поверить в эту охоту на сыр?
Мастер посмотрел на него своим добрейшим взглядом Юпитера.
— Разумеется, вас я ни в коем случае не призываю верить в то, чего вы не видели, — ответил он. — Но если эта история — неправда, значит вымышлена и другая, которая, однако, случилась со мной самим. Это было в Лейпциге. Однажды вечером я смотрел из окна своей квартиры на площадь. И вдруг увидел маленькую старушку, которая толкала что-то палкой, но я никак не мог разглядеть, что именно. Из любопытства я вышел на улицу. Что же это оказалось? Торопясь на рынок, она катила перед собой круги сыра! Этакую стайку ручных сыров!
Теперь и критик рассмеялся вместе со всеми. Он понимал, что не стоит слишком долго испытывать терпение олимпийца, если не хочет получить порцию «румфордского супа». Несмотря на свой острый язык, он, единственный реалист среди нас, все равно оказался бы в проигрыше.
Лишь один человек не смеялся со всеми. Я вообще не помню улыбки на его пепельном, плохо выбритом лице, хотя в душе он восхищался поступками и речами Генелли. Этот высокий худой человек с робким взглядом, в очень поношенном старомодном пиджаке жил в почти пустой комнатке, питаясь, что называется, святым духом. Он делал гравюры на меди по эскизам Генелли, когда их изредка заказывал какой-нибудь отчаянный антиквар. Лишь эта работа да воспоминания о дружбе с Платеном16, и были твои единственные радости в жизни, добрый Шюц17. «Верность, не лживый сон!»18 И ты честно сохранил ее до самого конца. Когда твой мастер удалился в мир теней, чтобы на асфоделевых лугах19 присоединиться к своим гомеровским героям, ведьме и повесе20, ты тоже не стал задерживаться долее под солнцем. Быть тенью тени показалось тебе более достойным, нежели бродить бестелесному здесь на земле.
Еще один верный друг давно покинул нас, благородный и мудрый голштинец Шарль Росс21. За его по-женски нежной внешностью угадывался дух твердый, как сталь. В пейзажах Росс равнялся на тот идеал искусства, что вдохновлял в свое время Пуссена и Клода22, пренебрегая модными изысками. Он переживал, что в современном искусстве царят совсем иные боги, чем те, которым поклонялся он сам, и, кроме того, страдал за порабощенную родину. Увы, ему не суждено было увидеть ее освобождения и возвращения в лоно немецких земель. Но, как и от Генелли, я ни разу не слышал от него жалоб. А когда он сердился или насмешничал, его кроткие глаза вспыхивали на бледном лице, словно то был отблеск его стальной души. В трудные времена он помогал Генелли больше остальных. Именно он нашел для него щедрого покровителя и друга барона Шака и помог заказу «Похищения Европы»23. Благодаря ему мастер уже на пороге старости создал чудесные произведения. Но на них все же оставило след долгое одиночество, пришедшееся на самые плодотворные годы.
Должен ли я упомянуть и о других окружавших мастера в те вечера? Многие по сей день живут и здравствуют, но не все сохранили верность кружку друзей, объединенных в ту пору равнодушием к бездушному и рациональному современному искусству. Вспоминаю одного, для которого наслаждение языческой древностью было неиссякающим источником радости, и в то же время заставляло острее чувствовать разлад с днем настоящим. Карл Раль24 — он тоже отошел уже к своим умолкнувшим друзьям, которых нечасто навещал на земле, останавливаясь проездом из Италии или Вены.
Я все еще вижу, как во время этих посещений он захаживал вечерами к Шимону и повергал в изумление всех, кто видел его впервые, тем, что спокойно съедал огромные порции мяса. В это время он был чем-то похож на льва, который с достоинством, без какого-либо оттенка жадности или чревоугодия поглощает свою добычу.
— Вот и понимаешь, — говорил мне на ухо критик, — что он силен в изображении мяса, при такой-то школе!
Но когда Раль, насытившись, вступал в беседу, становилось понятно, что богатырское питание тела не наносит ущерба его духу. Он завладевал разговором незаметно, без искусных риторических приемов, благодаря глубоким знаниям и ясному рассудку. Он умел мгновенно облечь в плоть и кровь любые отвлеченные идеи, и, казалось, это лицо сатира с голым лбом загоралось пророческим огнем, а мы завороженно внимали его речам. Генелли молча сидел рядом, сияя гордостью за друга, который выходил победителем из любых словесных битв. Он пил обычно за двоих, а Раль едва пробовал венгерское. Так они сидели, подобно Диоскурам25, полагаясь каждый на свою звезду, звезду красоты, тускло мерцавшую в пасмурном настоящем, но в такие ночи сияющую для посвященных древним эллинским блеском.
О эти ночи! Как давно они уже догорели и погасли и как ярко вновь засверкали в моих воспоминаниях при взгляде на этот дом. Многое произошло с тех пор — были и словесные бои, и радостные победы, веселые дни и ночи со старыми и новыми друзьями, но такие ночи не повторялись больше никогда!
Высокая, торжественная печаль охватила меня; я опустил голову на грудь и задумался о превратностях земного бытия. С тех пор, как наше тихое братство было разбросано ветром в разные стороны, я ни разу не переступал этого порога. Да и что мне было здесь искать? Но сегодня я ощутил непреодолимое желание хотя бы взглянуть на длинный коридор, через который нас обычно провожал, с лампой в руке, маленький чахоточный кельнер Карл, тоже давно отошедший в лучший мир. Я толкнул дверь, и несмотря на поздний час она бесшумно поддалась. Значит, внутри еще сидели посетители.
Но ни за что на свете я не согласился бы увидеть чужие лица на тех священных для меня местах.
Я присел на пустую бочку у стены, чтобы еще недолго в тишине предаться воспоминаниям. Слабый красный огонек доверчиво мерцал в коридоре. В доме было совершенно тихо, из погреба поднимался сырой и прохладный дух, смешанный с запахом вина. Время от времени я слышал снаружи шаги ночного гуляки. Через открытую дверь лился лунный свет, и я неотрывно глядел на него, будто мне, как некогда Якобу Бёме26 от луча солнца на оловянной миске, должно было явиться мистическое откровение. Но ждал я напрасно, и от напряжения у меня в конце концов, видимо, закрылись глаза...
Внезапно из глубины коридора послышались знакомые шаркающие шаги заспанного кельнера. Я решил, что меня попросят выйти, поскольку заведение закрывается, и поднялся. И вдруг в остановившемся передо мной человеке я со страхом узнал маленького Карла.
— Это вы? — спросил я. — Как вы здесь опять оказались? Разве вы не давно уже...
Он так проникновенно посмотрел на меня, что слова застряли у меня в горле.
— Господа послали меня, — тихо ответил он, — посмотреть, не пришли ли вы. Уже довольно поздно, и они не хотят задерживаться слишком долго.
— Какие господа? — переспросил я, чувствуя, что голос мне изменяет.
— Да вы ведь их знаете, — отозвался он и повернулся, чтобы уйти. — Вообще-то, как пожелаете, господа просто думали...
Он двинулся вперед, и я не стал дольше размышлять над странным приглашением. Удивительно, но я не ощущал ни малейшего испуга. Я даже был готов поверить, что все это сон, однако мои глаза были открыты, я видел красный огонек и слышал кашель маленького Карла. Да и кого бы я ни встретил, — в этом доме мне нечего бояться.
И все же, когда мы подошли к двери погребка, я внезапно остановился. Сердце учащенно забилось, и меня охватило сильное волнение. Изнутри отчетливо донесся незабываемый голос, который в последний раз пожелал мне «всего хорошего» на заснеженной площади Шиллера и Гете в Веймаре27.
— Чего же он не заходит? — звучал этот голос с прежней радостью и силой. — Клянусь Вакхом! Неужто он отказался от вина и вступил в общество водяных поэтов или пивных филистеров? Добрый вечер, друг! Садитесь к нам! Шюц немного подвинется. Или же хотите присесть рядом с Шарлем Россом? Карл, еще вина! Едва не сказал, что живем однажды...
Когда я вошел, то сразу увидел вокруг старых знакомых. На своем обычном месте у стены сидели мой дорогой Генелли, рядом — чуть похудевший, бледный и немного грустный, его брат-диоскур, а напротив него — Шюц и Росс, которые раздвинулись, освобождая для меня место посредине. Каждый приветливо кивнул мне, а Росс пробормотал что-то, но я не расслышал. Однако никто не протянул мне руки, да и на лицах их лежала печать отчужденности и заботы. Перед каждым стояли полупустая бутылка и бокал с красным вином, время от времени каждый в тишине делал неторопливый долгий глоток. Тогда их бледные щеки и тусклые глаза на мгновение озарялись и по телам пробе-гала дрожь, будто они силились стряхнуть с себя некий груз. Но потом они опять застывали на своих местах, опустив взгляды в бокалы.
Хотя газовое пламя не горело, я отчетливо видел дорогие мне лица, поскольку сквозь боковое окно проникал бледный свет луны, ложившийся на стол. Вдруг из темноты выступила еще какая-то фигура. Узнав черную, уже тронутую сединой курчавую голову нашего хозяина, я удивился, что эта встреча потрясла меня чуть ли не больше, чем свидание с друзьями.
— Не утруждайте себя, господин Шимон, — воскликнул я, когда он поставил передо мной бутылку и стакан. — По правде сказать, я и не мечтал, что еще раз буду иметь удовольствие...
И вновь я осекся, увидев, как на меня все посмотрели, будто опасаясь, что я скажу что-то неподобающее.
— Наш добрый хозяин должен быть среди нас, раз уж мы снова можем провести вместе эти прекрасные часы! — перебил меня Генелли. — Присаживайтесь к нам, господин Шимон. Что-то ваше вино сегодня не греет. И освещение тусклое. Впрочем, не беда. Коли уж такие люди собрались вместе, то светить им будет их собственный огонь. Но с Ралем ничего не поделать. О небесные боги! Зачем же принимать так близко к сердцу некие неотвратимые вещи. В конце концов не плотью единой жив человек, все же прочее — хлам!
Он выпятил нижнюю губу, как обычно любил делать, когда был чем-то доволен, и одним глотком осушил бокал. Никто не проронил ни слова. Маленький Карл, проскользнув с новой бутылкой в руках, поставил ее перед мастером. Тут я заметил, что лишь у Генелли глаза не застила пелена тоски и усталости и его могучая голова двигалась столь же непринужденно, как и в лучшие дни его жизни.
— Ну, рассказывайте, — вновь обратился он ко мне, — что происходит на белом свете? Чем занимаетесь? Что делает наш великий блуждающий огонек28? Все еще хлопочет в своем болотце? Я однажды показывал вам карикатуры на этого импозантного господина. Пожалуй, они пока не ко двору, но их время еще придет. Хотя не уверен, что о нем вообще кто-нибудь вспомнит, когда он вернет свой долг природе. Ба! То-то он удивится, когда окажется на берегу некой реки и дряхлый лодочник потребует свою мзду. Но давайте не будем портить себе вечер. Выпьем за хороших людей с честными намерениями!
Все подняли бокалы, и я захотел чокнуться с Шарлем Россом, но заметил, что это здесь не принято. Молча выпив, он меланхолично кивнул мне и беззвучно опустил бокал.
— Кстати, о честных намерениях, — продолжил Генелли, — что поделывает наш управитель от искусства, критик? Почему не захватили его с собой? Признаюсь, сердце у меня к нему не лежало, но все же он честный малый. Как говорится, по одежке протягивал ножки. Только временами она была слишком коротка, и он сам чувствовал, что у него подмерзают пятки. Порой ему хотелось достичь иных сфер — в такие часы мы чудесно понимали друг друга. Однако потом он возвращался к своим привычным мелким делишкам.
— В последний раз, — ответил я, — нас свели вместе именно вы. Я встретил его перед вашей Омфалой29 в галерее Шака. Он не уставал хвалить вакхический хоровод. «Таких кентавров, — говорил он, — не найдешь даже у древних мастеров, такой живой и разгульной орды полулюдей-полуконей обоего пола. Взгляните, к примеру, на ту красавицу, что нюхает розу. Я готов поверить, что невзирая на законы анатомии на земле могли жить такие существа с двумя желудками, двумя сердцами и шестью ко-нечностями. Вообще-то, я решительный приверженец реализма и считаю, что времена богов, героев и кентавров давно миновали. Но перед персонажами Генелли остается лишь снять шляпу. Иногда мне даже кажется, будто он видел своих героев воочию. Иначе как мог бы человек выдумать это воплощение язычества!»
— Но я и вправду видел их воочию, — сказал мастер, и его лицо засветилось торжеством. — А что касается кентавров, ваш критик угадал, мне хорошо известна эта необычная часть античного общества, ведь мне посчастливилось лично знать последнего кентавра.
Все взгляды устремились на него, однако Генелли не опустил глаз, явно не опасаясь сравнения с бароном Мюнхгаузеном.
— Хочу рассказать одну историю, — продолжал он, весело оглядывая нас. — Сегодня все равно нечего ждать бурных дебатов. Наш Раль, с тех пор как похудел, видимо, вступил в орден траппистов30, а теперешняя его диета — надо сказать, довольно противная — не вредит ни его душе, ни его телу. Дружище Росс, скорее всего, думает о жене и ребенке, ну а Шюц никогда не был хорошим оратором. Возможно, люди, подобные нам, ушедшие в отставку, должны бы тихонько лежать и открывать рот лишь для «Kyrie» или «Peccavi»31. Ну уж нет! Карл, еще вина! Итак, слушайте историю о кентавре.
Случилось это летом после моего приезда в Мюнхен, точного года я уже не припомню. Июнь и июль стояли прохладные, зато в августе на город обрушилась такая невыносимая жара, что люди буквально задыхались. Я сам мог работать только в «райском одеянии», похожем на то, в каком наш друг Росс разгуливал когда-то в своем ателье в Риме, вызывая интерес и удивление у соседок, а у их супругов — праведный гнев. В конце концов к нему пожаловал местный священник, дабы напомнить Россу о подобающей христианину одежде. А этот льстец начал обхаживать честного падре, угощая хорошим окороком и подогревая орвиетским вином. Вскоре бедняга совсем разомлел и, поддавшись на уговоры, начал снимать одну за другой одежды, пока не остался наконец в том же простом летнем облачении, что и хозяин.
Так вот, я не смог больше выносить эту жару и решил подыскать себе в горах какой-нибудь тенистый уголок, более прохладный, чем моя мансарда. Я отъехал немного от города по направлению к Инну, сошел на первой же станции, где мне приглянулся пейзаж за окном, и зашагал со своим ранцем в горы.
Вскоре я понял, что не привык взбираться на гору под полуденным солнцем, и очень обрадовался, когда после двух утомительных часов приметил сквозь листву орешника деревню, расположившуюся на пологом склоне. С запада гора круто поднималась вверх, так что даже у елей и сосен перехватывало дыхание, и они останавливались, не в силах взбираться дальше. Должно быть, за горными вершинами солнце скрывалось рано даже в разгар лета, и тень от горы дарила блаженную прохладу склону.
Я решил передохнуть в деревушке, хотя день там не обещал быть тихим. По случаю праздника освящения местной церкви единственный трактир был битком набит крестьянами. Они пили, играли в кегли и весело горланили. Вокруг лавок и балаганов неподалеку тоже кишела пестрая толпа, особенно возле балаганчика итальянца, за несколько крейцеров показывавшего чучело теленка с двумя головами и пятью ногами. Все эти удовольствия я отложил на потом, поскольку больше всего мечтал о прохладном напитке. Добравшись до верхней террасы трактира, я отыскал место в самом углу около перил и заказал красного тирольского. Вино я поставил перед собой на деревянную перекладину, устроился поудобнее и, понемногу остывая, любовался роскошным горным пейзажем.
Поначалу я решил, что слишком быстро выпил вино, и оно ударило мне в голову, так что я начал грезить наяву. Да и странная процессия была еще далеко, и я не вполне мог полагаться на глаза. Но вскоре мне пришлось поверить, что я вижу, что вижу, и слышу, что слышу.
Вообразите себе, что по горной дороге освещенный золотистым осенним солнцем неторопливо скакал гигантский кентавр. В некотором отдалении от него следовала робкая кучка жителей, видимо, соседней деревни. Огромный незнакомец внушал такое почтение, а может быть, и страх, что его свита не позволяла себе ни криков, ни насмешек. Но когда это невиданное шествие приблизилось, я увидел, что люди изо всех сил пытаются привлечь внимание ничего не подозревавших соседей, маша руками, палками и платками. Правда, среди музыки и праздничного шума их не замечала ни одна живая душа.
Тем сильнее был эффект от неожиданного появления кентавра. Мифическое чудище беспрепятственно вошло в деревню и, гарцуя, направилось прямиком к трактиру. Только тогда крестьяне наконец поняли, что произошло нечто неслыханное. Моментально все толпившиеся на улице бросились врассыпную. Как муравьи начинают разбегаться, если разворошить палкой их жилище, так мужчины и женщины в дикой панике спешили прочь от трактира, и каждый старался добраться до двери, забора или дерева, за которыми чувствовал бы себя в относительной безопасности от невероятного четвероногого. А сидевшие в трактире люди, напротив, ринулись к окнам, с ужасом наблюдая за переполохом. После внезапного шума воцарилась мертвая тишина; даже собаки, злобно лаявшие поначалу, замолкли, опасаясь мощных копыт незнакомца, и осторожно отступили, поджав хвосты. Только низкорослые крестьянские лошади доверчиво приветствовали его гостеприимным ржанием; они осознавали свое частичное родство с могучим пришельцем, гордясь этим.
Пожалуй, я был единственным, кто не потерял головы. Во-первых, как закоренелый язычник, я прекрасно разбирался в фантастическом естествознании, и к тому же восхищение невероятной красотой чужака пересиливало всякий страх.
Кентавры, которых позднее рисовал я сам, или которых мой друг Хенель32 высек на фризе дрезденского театра, против этого божественного создания из плоти и крови были все равно что полукровка против благородной породы.
Хотя, пожалуй, не следует говорить о породе в нашем сегодняшнем понимании, описывая лошадиную часть чудесного гостя церковного праздника. Лучше вспомнить о Буцефале и о троянском коне или о восхитительном боевом жеребце, который несет Великого курфюрста на Длинном мосту33. Мощное тело обтягивала гладкая серебристо-серая кожа, под которой была заметна игра мускулов, а на каждой складочке ее солнце мерцало как на бархате тончайшей выделки. Человеческая часть кентавра была достойна этого величественного пьедестала: руки, плечи, грудь, будто скопированные с фарнезского Геракла34, кожа с мягким загаром, частично покрытая густыми темными волосами, угольно-черные пряди развевались вокруг головы и тяжелой гривой ниспадали на спину, густой черный хвост был весьма ухоженным с виду. Нельзя было не признать: великан заботился о своей внешности. Не было заметно и следа тысячелетней пыли или грязи, его борода была искусно подстрижена и завита, а в волосы над ухом он воткнул розу, видимо, недавно сорванную с куста. На его серьезном лице было немного дикое выражение, как у застенчивого и потому упрямого мальчишки.
Прекрасный возмутитель спокойствия неторопливой рысью вбежал во двор деревенского кабачка, откуда тотчас же с громкими воплями разбежались последние гости, прижимая к груди пивные кружки. Свита кентавра не решилась проследовать за ним на площадь, казалось, у всех слова застыли в горле от дерзости язычника, столь непринужденно чувствовавшего себя на церковном празднике. Вокруг слышалось лишь невнятное боязливое бормотание. Все ждали самого страшного. Пожалуй, никто не сомневался, что это сущий дьявол, явившийся в самый разгар веселья, чтобы утащить за собой в преисподнюю всю хмельную и шумную компанию.
Однако древний язычник показал себя вполне мирным и дружелюбным. Оказавшись напротив террасы, где я как раз находился, он вежливо взглянул на меня, явно желая завязать разговор, и я учтиво кивнул ему в ответ. Но тут он устремил свои огромные блестящие глаза на стоявшую рядом со мной молоденькую служанку с двумя бутылками тирольского вина в руках. Она их вынесла для посетителей, в панике бежавших прочь, и теперь стояла на террасе, бесстрашно рассматривая невероятное существо. Незнакомцу сразу приглянулась эта милашка — ее называли красотка Нанни — и особенно красное вино у нее в руках. Изящным жестом, которого трудно было ожидать от получеловека-полуконя, он вытащил из кудрей веточку розы, понюхал ее и без труда — поскольку его голова и плечи возвышались над парапетом — протянул прелестной девушке. Немного смутившись, она приняла цветы и сразу же вручила ухажеру обе бутылки, которые тот лихо осушил.
Многочисленные зрители этой задушевной сцены удивленно перешептывались, а самые лихие молодцы даже крикнули: «Ваше здоровье!» и «С Богом!», но на них тут же зашикали более осторожные. Но и кентавру вино, видимо, развязало язык. Он сказал девушке комплимент, который та не поняла и лишь захихикала в ответ. Потом обернулся ко мне и спросил, где он находится и как называется этот дикий народ, поскольку сам не понимает, как здесь очутился. Я ответил...
— Простите, господин Генелли, — прервал его хозяин, как и мы все, жадно слушавший рассказчика, — на каком языке вы общались с античным господином?
— На древнегреческом, господин Шимон, хотите верьте, хотите нет. Разумеется, он говорил более свободно, но на ионийском диалекте, несколько затруднявшем понимание. Но прошу, не прерывайте меня. Пусть мне лучше принесут еще вина. Итак, на чем я остановился? Ах да, в свою очередь я спросил у него словами Гомера:
«Кто ты? Какого ты племени? Где ты живешь?
Кто отец твой?
Кто твоя мать?..»35
И тут обнаружились совершенно невероятные вещи. Представьте себе, много тысяч лет тому назад бедняга скакал по этим самым горам, поскольку был кем-то вроде сельского врача, и навещал своих пациентов — пастухов, охотников, крестьян. Стоял очень жаркий день, а он за время осмотров несколько перебрал, ведь лечил он в основном за стакан вина или крепкой настойки горечавки. Так вот, проходя в полдень мимо заснеженных полей, он решил вздремнуть, забрался в трещину во льду и заснул крепким сном. Что случилось дальше, он не совсем понимал. Видимо, его завалило снегом, который превратился потом в ледяные глыбы, растаявшие лишь сегодня, то есть несчастный кентавр оказался заживо заморожен, подобно мамонту в полярных льдах. По счастью, его рассудок безболезненно перенес долгую зимнюю спячку — думаю, благодаря изрядному количеству алкоголя, — и теперь древний герой попал в наш лишенный чудес мир. Я решил помочь ему одолеть невероятную пропасть между его засыпанием и пробуждением, но вскоре заметил, что его мало интересует мировая хроника. Он лишь мотал головой, когда я рассказывал, что боги Греции — уже пройденный этап, и не понимал, кто такие Лютер, святой Августин или Пий IX. Никакого впечатления на него не произвели и политические перемены последних трех тысячелетий. Когда я наконец замолчал, из глубины его души вырвался тяжелый вздох, и он признался, что ни на йоту не поумнел ото всех рассказанных мною небылиц. Он только понял, что с ним сыграли коварную шутку: пока он был заключен в ледяную глыбу, все вокруг переменилось, причем не в лучшую сторону. Он честно признался, что, даже на первый взгляд, мир кажется ему более жалким и убогим, леса — поредевшими, вина — более кислыми, женщины — даже его под-ружка Наннис, или Наннидион (так он перевел на греческий имя служанки), — неуклюжими и простоватыми. И он рассказал, что приключилось с ним после пробуждения.
Едва растаяла его ледяная оболочка и он прогнал от глаз последнее облачко сна, как тотчас же поскакал прочь в досаде на упущенные, как ему казалось, целые сутки, потому что должен был проведать в долине тяжелобольную пациентку. Но оглядевшись по сторонам, решил, что еще спит, настолько необычным было все вокруг. Густые леса, по которым он недавно скакал, не разбирая тропы, исчезли; на лугах, где обычно паслись альпийские козы, он увидел пастухов с пестрыми коровами; а над ручьями, через которые он всегда перепрыгивал, оказались перекинуты мостики. Кентавр остановился и начал раздумывать, каким образом все могло перемениться за одну ночь. Но это ему не помогло, и он решил обратиться за советом к знакомой лесной нимфе, живущей по соседству в ущелье. Увидев, что там по-прежнему росли могучие белые пихты, он с облегчением вздохнул и громко позвал свою подругу. Однако нимфа не появилась, как обычно, в кроне деревьев. Зато показалась собиравшая горечавку старушка, которая сразу же с криком бросилась в чащу леса, делая какие-то странные движения руками — думаю, бедняжка крестилась.
В полной растерянности кентавр продолжил путь. Так получилось, что в этот воскресный день праздник привлек в нижнюю деревню всех окрестных жителей, у кого нашлись чистая куртка да пара крейцеров в кармане, потому кентавр не встретил больше ни одного человека. Вскоре он увидел дома с побеленными стенами, что явилось для него новой загадкой. Ведь здесь среди скал и кустарников раньше стояли лишь развалившиеся хижины козопасов. Между домами возвышалось странное здание с островерхой башней, из которой доносились непонятные гулкие звуки.
И тут взору кентавра предстала картина, которая не просто удивила, но даже напугала его. Рядом с первыми домиками висел прибитый к кресту человек с распростертыми кровоточащими руками. Кровь текла также из раны на его груди и по лбу, увенчанному венком из колючего терновника, а его широко открытые глаза были устремлены в небо. Казалось, несчастный еще дышал.
С болью в голосе кентавр спросил распятого, за какие преступления его так жестоко наказали. Не получив ответа, он осторожно прикоснулся к груди страдальца, желая снять его с пыточного дерева и перевязать раны. И с изумлением понял, что это была лишь деревянная скульптура. У основания креста цвел розовый куст, с которого кентавр и сорвал веточку, украшавшую его волосы. Понюхав прелестные цветы, он немного успокоился и поспешил дальше.
В это время в деревне пожилой пастор начал вечернюю службу для тех немногих стариков, которые не пошли на праздник. Пробежав по пустынной улице, кентавр остановился около открытой двери церкви и с любопытством заглянул в полутемное помещение. Луч солнца падал через маленькое боковое окно на изображение удивительно прекрасной золотоволосой женщины в голубых и красных одеждах с лилией в руке, прижимающей к груди ребенка. Ее большие добрые глаза смотрели прямо на кентавра, будто приглашая подойти поближе. Перед ней склонился пастор, а вслед за ним и остальные прихожане.
«Ты должен войти и рассмотреть ее», — подумал кентавр и двинулся к алтарю по каменным плитам, которые зазвенели под его копытами.
Невозможно представить, что тут началось. В первое мгновение набожное собрание, должно быть, окаменело от ужаса при виде осквернения храма четвероногим чудовищем. Первым пришел в себя пастор. Он рассудил, что незваный гость не может быть не кем иным, как сатаной, поэтому поднял руку и троекратно провозгласил: «Изыди! Изыди! Изыди!».
«Клянусь Зевсом, — проговорил кентавр, — мне приятно встретить человека, владеющего греческим языком. Не скажешь ли ты мне, старик, кто эта прелестная женщина, чем вы здесь занимаетесь и каким образом все столь чудно преобразилось со вчерашнего дня?»
Пастор покрылся холодным потом. Отступив на несколько шагов, он повторил призыв и принялся осенять себя крестными знамениями. Однако теперь настал черед испугаться кентавру. Он вдруг увидел стариков с трясущимися головами и перекошенные от ужаса лица сморщенных старух в огромных чепцах и решил, что попал на сборище ведьм и волшебников. Бросив еще один исполненный почтения взгляд на восхитительную голубоглазую незнакомку, он повернулся и поскакал к открытой двери, с силой хлеща себя хвостом, словно защищаясь от злых духов.
«Любезный друг, — обратился я к кентавру, когда он закончил рассказ, — вы находитесь в незавидном положении. Вам будет нелегко найти достойное вас место в нынешнем обществе. Если бы вы очнулись несколькими столетиями раньше, в эпоху Возрождения, все было бы чудесно. Вы направились бы в Италию, где в то время античность была в почете и ни единого человека не коробила бы ваша языческая нагота. Но сейчас, среди этого узкогрудого, широколобого, нелепо одетого сброда, именующего себя современными людьми, боюсь, мой друг, вы горько пожалеете, что не остались навсегда во льдах! Где бы вы только ни появились, в каких городах или деревнях, уличные мальчишки будут бегать за вами, швыряя гнилые яблоки, старухи — истошно вопить, а священники объявят вас дьяволом. Зоологи кинутся вас ощупывать и осматривать, а потом назовут монстром и решат, что разумнее всего подвергнуть вас вивисекции, дабы изучить, каким образом желудок животного соотносится с желудком человека. Однако если вы и ускользнете от Сциллы естествознания, так неизбежно попадете к Харибде искусствоведения, представители коего заявят, что вы — бесстыдный анахронизм. А художники, умеющие рисовать лишь штаны, камзолы да маленьких смешных убожеств, объединившись в богадельни, называемые художественными союзами, будут требовать от полиции вашей немедленной высылки — как существа, угрожающего общественной морали. Возможность получить вам практику, даже ветеринарную, тоже совершенно немыслима. Ныне бытуют иные методы врачевания, да и неслыханно, чтобы врач появлялся у ложа пациента вместе со своим экипажем. Таким образом, чтобы заработать на хлеб насущный, вам остаются цирк или зверинец, но я ни в коем случае не считаю это подходящим для вас. Нет, дорогой, пока в голову не придет что-нибудь более разумное, я предлагаю вам разделить мой скромный кров. Хотя мое положение не намного лучше — и мне приходится сносить презрение и насмешки уличных мальчишек и ханжей-старух, преподавателей эстетики и так называемых коллег, но взгляните, я еще жив и чувствую себя прекрасней, чем они. Мужайтесь, друг мой! Это красное вино — кислятина вырви глаз, но не всегда же приходится наслаждаться нектаром. Но, клянусь, когда два хороших человека пьют на брудершафт, даже самый плебейский напиток становится благородным!»
С этими словами я передал ему бутылку, принесенную Нанни, и затем чокнулся с ним бокалом, немало озадачив его новым для него обычаем. Я кивнул девушке, чтобы продолжение не заставляло себя ждать, и вскоре мы уже блаженствовали, сделавшись добрыми приятелями.
Наше дружеское общение понемногу успокоило крестьян. Самые отважные вернулись во двор, а так как с ними ничего ужасного не случилось, следом потянулись и другие. Все принялись тщательно осматривать пришельца, а лошадиный барышник Ансельм Фройденберг громогласно заявил, что даже тысяча луисидоров за такого жеребца — пустяк, кабы не мешала неестественная верхняя часть. Несмотря на огромный прогресс в военном деле, еще нигде не ввели в употребление сросшихся вместе кавалерийских лошадей и всадников. Одна любопытная девушка отважилась дотронуться до диковинного существа и погладила его бархатную шерсть. Тогда осмелевший деревенский кузнец приподнял его заднюю ногу, на что кентавр, подносивший к губам седьмую бутылку, почти не обратил внимания. К изумлению кузнеца, на крепких светло-коричневых копытах не оказалось подков. Вскоре разгорелась бурная дискуссия, к какой же породе лошадей причислить незнакомца. В конце концов местный учитель предположил, что, ввиду отсутствия прочих характерных признаков, он, скорее всего, относится к кавказской породе, на что не смог возразить даже сам Фройденберг.
В то время как общество, казалось, примирилось с античным существом и он даже имел некоторый успех у публики — что называется в театре success d’estime, успех из уважения к актеру, — против безобидного пришельца уже зрел коварный заговор. Зачинщиком стал, конечно, святой отец, считавший весьма вредным для прихожан общение с явно не крещенным, совершенно голым и, скорее всего, безнравственным получеловеком-полуживотным. Сильно разгневан был и итальянец, владелец телячьего чучела о двух головах и пяти ногах. С появлением чужака его уродец лишился законного дохода. Ведь на кентавра можно было смотреть бесплатно! Он был живой, пил, болтал и, кто знает, мог начать выделывать какие-нибудь искусные верховые номера, чего уж никак нельзя было ожидать от чучела. Итальянец не собирался этого терпеть. Как же так, возбужденно доказывал он, у моего теленка все документы в порядке, есть разрешение из полиции, а этот проходимец без паспорта бессовестно крадет у него хлеб!
Но наибольший пыл выказал деревенский портной, жених прелестной Нанни. Едва чудовище появилось, он ринулся сломя голову в дом, позабыв о невесте. Но потом с гневом наблюдал через окно, как непринужденно она флиртует с кентавром, принимает от него цветы и угощает вином. К тому же телосложение незнакомца от пояса вызвало справедливую зависть у несколько криво скроенного портного. Когда он упрекнул ее в неприличном поведении, Нанни насмешливо сказала, что пришелец воспитанней и приличней многих людей, которые были бы счастливы, если бы могли, не стыдясь, появиться голыми. Портной не нашелся, что ответить невесте. Зато священнику он заявил, что введенная чужаком новая мода не только попирает понятия о приличии и добрых обычаях, но и угрожает честному портновскому делу.
Об этих кознях мы, разумеется, не подозревали. К успокоившимся крестьянам вернулось праздничное настроение. Щедро лившееся вино делало свое дело, и хотя моему новому приятелю не особенно понравился народ вокруг нас в шапках и чепцах, неуклюжих сапогах, кургузых куртках и помятых юбках, он был достаточно вежлив, чтобы этого не показывать, и не отказывался от протянутого ему бокала. Мало-помалу хмель ударил ему в голову, глаза у него заблестели, а из гортани начало вырываться нечто среднее между человеческими словами и лошадиным ржанием. Когда заиграли музыканты, наш друг схватил прекрасную Нанни, ловко посадил ее к себе на спину и начал изящно двигаться в такт музыке между столов, демонстрируя искусные пируэты, а храбрая девица, крепко держалась руками за его торс.
Представление было таким чудесным, что зрители плотно окружили удивительную пару. Как же я жалел, что забыл блокнот для набросков и не мог нигде раздобыть даже клочка бумаги! Я не отрывал взгляда от буйной пляски кентавра, пытаясь запомнить хоть несколько поз.
Это продолжалось с четверть часа. Случайно бросив взгляд на долину, я заметил кавалькаду, приближающуюся к деревне: полдюжины сельских жандармов, а среди них на маленьких крестьянских лошаденках двое гражданских, которые оживленно показывали на трактир. Когда они подскакали ближе, я узнал итальянца и портного. Я крикнул своему приятелю, что ему следует быть настороже, поскольку против него что-то замышляется. Видимо, филистеры мечтают выместить свою злобу на его Самсоновой гриве. Но все было напрасно. То ли музыка заглушала мои слова, то ли упоение вакхическим танцем пересилило страх, — не знаю. Кентавр остановился, лишь когда вооруженный отряд (презренные доносчики остались позади) въехал на площадь, толпа расступилась, и усатый капрал с толстым брюхом грубо потребовал у кентавра предъявить документы.
Добрый парень, конечно же, не понял ни единого слова. Он даже не догадывался о враждебном смысле слов капрала, поскольку в его мире бытовали иные представления о гостеприимстве. Он обернулся ко мне с растерянной улыбкой, и лишь когда я объяснил, что эти самодовольные господа — охотники, а он для них — дичь, которую желают запереть в стойле, на его лице появилась презрительная усмешка. Он лишь пожал плечами и неторопливо продолжил танец, по-прежнему прижимая к себе руки девушки. Кентавр двигался все быстрее и быстрее и вдруг совершил восхитительный прыжок, — честное слово, не менее двенадцати шагов в высоту и двадцати в длину — прямо над головами крестьян, так что у некоторых даже с голов слетели шапки. Женщины громко закричали, жандармы с бранью погнались за ним с ружьями наперевес, вслед прогремело даже несколько выстрелов, а кентавр скакал вверх по горе, крепко держа девушку.
Доскакав до глубокого ущелья, которое пересекает склон, он остановился и обернулся. Его преследователи в бессильной ярости карабкались далеко внизу. Я уже не различал его лица даже в свою маленькую подзорную трубу, но видел, как он повернулся к девушке, и, вероятно, тронутый жалобными мольбами, отпустил ее руки. Нанни проворно соскочила с его спины. Конечно, поначалу ей льстило ухаживание прекрасного незнакомца, рядом с которым ее жених выглядел довольно жалко. Но когда она поняла, что шутка заходит чересчур далеко, то, видимо, испугалась. Теперь она прыгала с камня на камень вниз по склону, торопясь обратно в объятия портного.
Кентавр некоторое время смотрел ей вслед, и моя фантазия дорисовала выражение насмешки, скользнувшей по лицу и уступившей место возвышенной тоске. Когда жандармы с шумом и гиканьем добрались до кентавра примерно на расстояние броска камня, он еще раз взглянул вниз, взмахнул рукой — этот прощальный жест я отнес на свой счет, — небрежно, почти вызывающе повернулся спиной к преследователям и пропал на наших глазах в бездне, чтобы никогда больше не появиться.
Мы сосредоточенно слушали, лишь Раль, казалось, засыпал, по крайней мере, его полуприкрытые глаза сатира подозрительно блестели в лунном свете. Теперь, когда рассказчик умолк, он глубоко вздохнул, поднялся с места и принялся искать на вешалке шляпу.
— Как, вы уже собираетесь? — воскликнул Генелли. — Да куда торопиться? Мы все сейчас в отличном настроении — история иссушила мое горло, еще вина, господин Шимон! Да здравствуют все призраки, включая кентавров! К сожалению, им не осталось места в этом отвратительном девятнадцатом веке. Но признайтесь сами, если бы пришлось выбирать между портным с его меркой счастья и тем бедным молодцом... Но клянусь Вакхом! Шимон, где же вино?
Хозяин приблизился с почтительным и таинственным выражением лица.
— Вы же знаете, господин Генелли, — прошептал он, — если бы это зависело от меня, но при всем желании — правила недавно ужесточились, и я получу нагоняй, если останусь здесь хоть на минуту после часа ночи.
— Ах так, — пробурчал старый мастер и неохотно встал. — Эти вечные хлопоты. Ночь еще так длинна, и коли мы здесь однажды немного пропустим полицейский час, кому это повредит? Но ты — лишь бедный горемыка, и прав был славный Ахиллес: Лучше быть поденщиком на свету, чем царем во тьме!36 Дайте мне руку, Шюц. Здесь кромешная тьма или это история застит мне глаза? Где же малыш Карл, чтобы посветить нам? Счастливейшая ночь!
И он пошел вперед, легко опираясь на руку похудевшего друга, прежней уверенной походкой, простоволосый, высоко подняв голову, и за ним последовали другие. Маленький Карл с лампой мелькал впереди, Шимон ждал меня на пороге, вероятно, желая закрыть за мной дверь. Он печально посмотрел на меня, словно бы говоря: знавали мы и лучшие времена! Когда мы шли по темному коридору, я вдруг понял, что не слышу шагов. И проход, казалось, не имел конца, хотя мы торопились. Через головы других я увидел седину Генелли, отливающую красным от света лампы. Я подумал, что многое мог бы ему еще сказать, а главное — спросить. Я попытался догнать его, ведь нас отделяло лишь несколько шагов. Но чем поспешней я шел, тем дальше он оказывался. В конце концов меня прошиб холодный пот, я стал задыхаться и почувствовал, как ноги наливаются свинцом.
— Я передохну минутку, господин Шимон, — сказал я и присел на пустую бочку у стены. Попросите господ подождать меня снаружи!
Ответа не последовало. Через открытую дверь ворвалась струя воздуха, которая потушила лампу Карла и коснулась моего разгоряченного лица. В тот же момент часы на церковной колокольне пробили час, и я услышал чей-то голос:
— Заведение закрывается. Попрошу господина найти себе другое место для сна.
Изумившись, я открыл глаза и увидел лицо совсем незнакомого слуги.
— Прости, дружище, — пробормотал я, — я лишь на минутку присел. А мои друзья уже вышли?
— А, — сказал он, — вы из тех, кто раз в неделю играют здесь в тарок? Может быть, проводить вас домой?
Я быстро встал и вышел на улицу. Мой лоб остыл, но сердце горело, и, взглянув на ночное небо, покрытое фантастическим узором легких облаков, я пробормотал:
Прояснился небосклон,
Тени отступили,
Мгла рассеялась, как сон,
Разлетелась пылью37.
1870г.
1 Позднеготическая церковь в Мюнхене (1466 —1492, архитектор Й. Гангхофер).
2 Немецкий поэт Эмануэль Гейбель (1815 — 1884).
3 День гнева (лат.) «День гнева, этот день испепелит мир...» — католический гимн о Страшном суде.
4 Перевод с латинского Т. А. Азаркович.
5 «В последний раз я пью и с чашей роковою/ Приветствую тебя, неведомый рассвет!» — последние слова из монолога Фауста (И.В. Гёте «Фауст», часть 1, сцена 1, перевод Н. Холодковского).
6 Бонавентура Генелли (1798 — 1868), немецкий художник, друг Пауля Хейзе. Автор серий графических работ к «Фаусту» Гёте, «Божественной комедии» Данте, «Илиаде» и «Одиссее» Гомера, больших полотен маслом на мифологические темы. Его произведения хранятся в музеях Мюнхена и Берлина, в частных коллекциях.
7 В 1858 г. великий герцог Карл Александр назначил Генелли директором Академии искусств в Веймаре.
8 Немецкий писатель и меценат Адольф Фридрих фон Шак (1815 — 1894). Через посредство Хейзе поддерживал обедневшего Генелли. Его коллекция немецкой живописи XIX в. ныне находится в государственной галерее Шака.
9 Иоганн Иоахим Винкельман (1717 — 1768) — немецкий историк искусства, основоположник эстетики классицизма. Асмус Якоб Карстенс (1754 — 1798), живописец и график, представитель классицизма.
10 Немецкий художник, гравер и поэт Фридрих Мюллер (1749 — 1825), большую часть жизни проживший в Риме.
11 Киферея — одно из прозвищ богини чувственной любви Афродиты (Венеры), происходит от названия острова Кифера — одного из центров ее культового почитания.
12 Йозеф Антон Кох (1768 — 1839), австрийский живописец. Пейзажи в духе классицизма и раннего романтизма. С 1795 г. жил в Риме. Он также опубликовал «Три послания из Рима против писанины об искусстве в Германии» (Дессау, 1833) и «Современную художественную хронику, или «Румфордский суп», сваренный и написанный И.А. Кохом» (Карлсруэ, 1834).
13 Йоханн Кристиан Рейнхард (1791 — 1849), немецкий художник.
14 В ветхозаветной мифологии богатырь и охотник.
15 Имеется в виду критик Фридрих Пехт (1814 — 1903). Он вспоминал: «В Мюнхене я встретил множество старых литературных знакомых, и вскоре познакомился с Линггом и Хейзе. Последнего я довольно часто видел вместе с Гейбелем у Шимона, где мы еженедельно собирались вокруг Генелли, чьи речи было так восхитительно слушать за бокалом вина». (Ф. Пехт «О моем времени», II, Мюнхен, 1894).
16 Август фон Платен (1796 — 1835), немецкий поэт и драматург.
17 Германн Шюц (1807 — 1869), немецкий гравер.
18 «Верность, не лживый сон» — слова из баллады Ф. Шиллера «Порука» (перевод А. Кочеткова).
19 В поэмах Гомера в подземном царстве души умерших гуляют по лугам асфоделей.
20 Имеются в виду герои произведений Генелли — рисунков к поэмам Гомера (1840, переработаны в 1850), «Жизнь ведьмы в рисунках» (1847), «Из жизни повесы» (1866). Последние восходят к серии гравюр на меди Уильяма Хогарта (1697 — 1764) «Карьера мота».
21 Шарль Росс (1819 — 1857), художник-пейзажист.
22 Никола Пуссен (1594 — 1665), Клод Лоррен (1600 — 1682), Французские живописцы, представители классицизма.
23 Картина Генелли «Похищение Европы», выполненная по заказу Шака в 1859 г., находится сейчас в галерее Шака.
24 Австрийский художник Карл Раль (1812 — 1865) писал исторические полотна, долго жил в Риме.
25 Диоскуры — в греческой мифологии Кастор и Полидевк, близнецы, сыновья Зевса. В награду за братскую любовь Зевс сделал их созвездием Близнецов (или утренней и вечерней звездой).
26 Якоб Бёме (1575 — 1624), немецкий философ-пантеист.
27 Воспоминание Хейзе о последней встрече с Генелли в Веймаре, куда писатель приезжал на премьеру своей драмы в придворном театре.
28 Имеется в виду Вильгельм фон Каульбах (1805 — 1874), художник, с 1849 г. директор мюнхенской Академии, препятствовавший получению Генелли государственных заказов. Его публичное восхваление в то время было несопоставимо с его реальными заслугами.
29 Картина Генелли «Геркулес и Омфала».
30 Монашеский орден, члены которого давали обет молчания.
31 Церковные гимны «Kyrie eleison» (Господи, помилуй) и «Peccavi» (Я согрешил).
32 Эрнст Хенель (1811 — 1891), немецкий скульптор.
33 Конный памятник Фридриху Вильгельму (так называемый Великий курфюрст) на Длинном мосту в Берлине, скульптор Андреас Шлютер (1664 - 1714).
34 Мраморная статуя отдыхающего Геракла в Национальном музее Неаполя, из собрания Фарнезе, копия скульптора Гликона из Афин (III в. н.э.) со статуи работы Лисиппа.
35 Гомер «Одиссея», XIV, 187 - 188 (перевод В. Жуковского).
36 Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать, мертвый.
(Гомер, «Одиссея», XI, 489 — 491, перевод В. Л. Жуковского.)
37 Заключительные строки интермедии из сцены «Сон в Вальпургиеву ночь» (И. В. Гёте, «Фауст», 1 часть, перевод Б.Пастернака).
Новеллы
Критика
- Бидермейерская доминанта «дом» в новеллистике и поэзии Пауля Хейзе
- Идейно-художественное своеобразие поэтической новеллы Пауля Хейзе «Урика»
- Пауль Хейзе и И. С. Тургенев
- Поэтика «итальянских» новелл П. Хейзе
- Ретроспективная композиция в новеллах Пауля Хейзе
- Теория новеллы в творчестве Пауля Хейзе