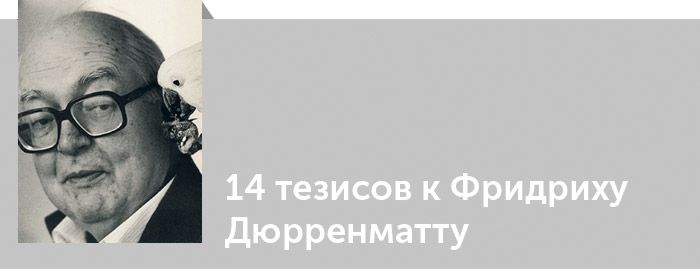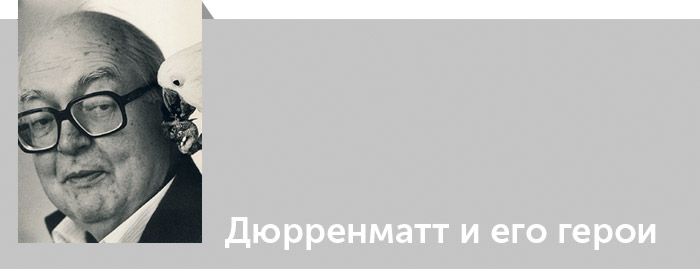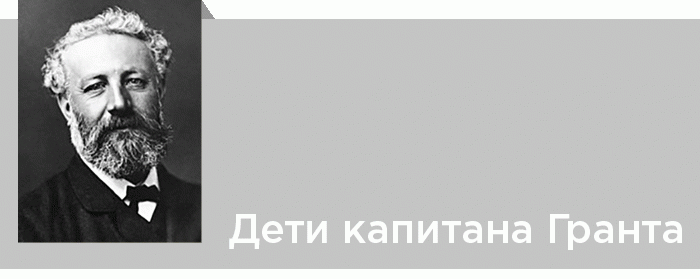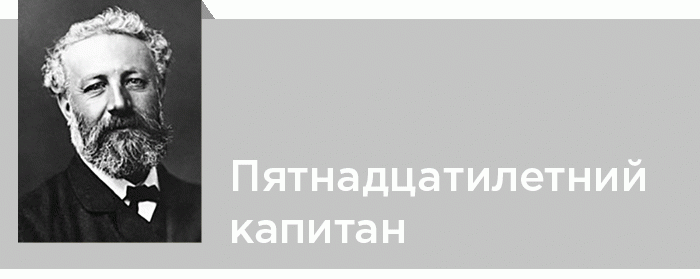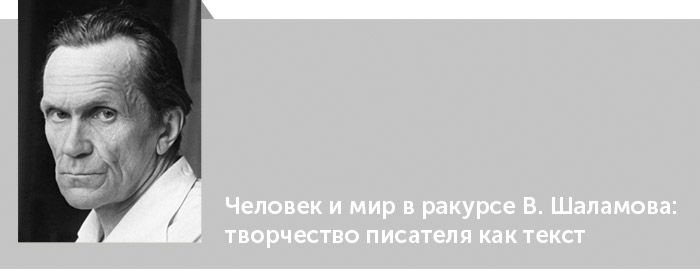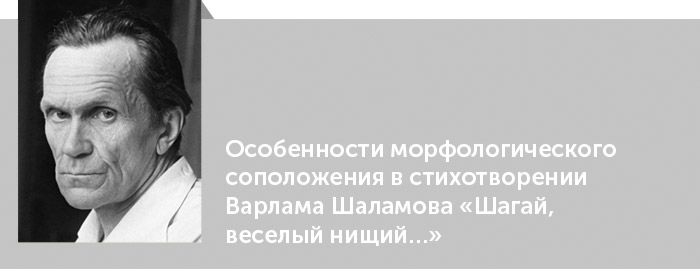Этот неизвестный Жюль Верн

Ион Хобана
В 1895 году Жюль Верн достиг апогея своей удивительной литературной карьеры. С этой высоты он мог обозревать сверкающие вершины, носящие название «Путешествие к центру земли», «С Земли на Луну», «Двадцать тысяч лье под водой», «Вокруг света в восемьдесят дней», «Таинственный остров», «Матиас Шандор», «Робур-Завоеватель», «Замок в Карпатах». Его слава давно перешагнула границы Европы. И все же 10 апреля он писал своему итальянскому корреспонденту Марио Туриелло: «Я чувствую себя самым безвестным из людей». Скромность? Сдержанность? Или... «признание, возможно, приоткрывающее бездны его подсознания, которые он сам не решался исследовать», как предполагает в своей интересной работе Жан Шено?
Это последнее толкование необходимо рассматривать в контексте некоторых относительно недавних попыток выяснения «тайны» великого писателя. Сюрреалисты и их последователи подчеркивают повторение тем «приобщения» и скрытой символики во всем творчестве Верна. Марсель Брион назвал «Путешествием, приобщающим к тайнам мира» очерк, напечатанный в 1966 году в специальном выпуске журнала «Л’арк». В свою очередь, Мишель Бютор подчеркнул важную роль, которую играют темы «центрального огня» и «центральной точки» (исканий героев. — Ред.), смело ставя рядом с прекраснейшими страницами Анри Мишо описания подводных ландшафтов, которые открылись пленникам «Наутилуса», и электрических бурь, пронизывающих полярный воздух, в «Приключениях капитана Гаттераса».
Психоанализ также послужил основой для объяснения частого присутствия темы острова, сокровища, мощи металла. Марсель Морэ отмечает постоянство двух основных психоаналитических тем: поиски отца и нерушимая дружба двух братьев. Его книги предлагают нам в качестве ключа к Жюлю Верну его отношения с издателем Этцелем и братом Полем Верном. В этом свете лорд Гленарван из «Детей капитана Гранта» является идеальным отцом Роберта Гранта, а Сайрес Смит из «Таинственного острова» — отцом молодого натуралиста Герберта. Тема двух братьев появляется в «Братьях Кип», в «Севере против Юга» и в «Ледяном сфинксе».
Жан Шено считает эти исследования «глубоко оправданными», ибо «они окончательно лишают Жюля Верна алиби «детского писателя», под укрытием которого он так долго таился; они подчеркивают, в частности, великое богатство его творчества». Мы еще вернемся к «алиби». Что касается заключений исследователей, то они, безусловно, отражают изменение точки зрения литературных кругов, более или менее официальных, и способствуют переоценке места, которое занимают «Необыкновенные путешествия» в истории французской и мировой литературы. Это не значит, что мы должны согласиться с толкованиями сокровенных, герметичных, психоаналитических истоков его творчества прежде, чем будут исчерпаны лежащие на поверхности факты, которые позволят нам объяснить и изучить жизнь и творчество писателя. Это трудная задача, особенно если учесть несогласие владельцев семейного архива снять запрет, установленный семьдесят лет назад. Но можно ли их обвинять? Маргарет Аллотт де ля Фюи, внучатая племянница писателя и автор первой его биографии, пользовавшаяся этим архивом, пишет, что где-то в 1900 году Жюль Верн «сжигает сотни писем, личных бумаг, счетов и даже неизданных рукописей. При последнем переезде на другую квартиру он, словно нарочно, „затерял“ бесценные документы. Он заметает следы своего материального бытия». А вот еще свидетельство — письмо, адресованное Марио Туриелло 25 мая 1902 года: «История моей жизни не имеет ничего по-настоящему интересного, мои путешествия тоже ничем не примечательны. Писатель интересен для своей страны и всего мира только как писатель». Значит, мы можем предположить, что запрет, о котором мы упоминали, является лишь выражением предположительного или явного желания Жюля Верна, чтобы последующие поколения судили о нем лишь по его творчеству. Но понять вовсе не значит оправдать. Доступ исследователей к семейному архиву привел бы, безусловно, к выяснению спорных аспектов этого изумительного творчества. Тем более, что часть «Необыкновенных путешествий» связана с личной жизнью писателя, который, впрочем, сам признается в «Клодиусв Бомбарнаке»: «Редко случается, чтобы личность автора не наложила отпечатка на то, о чем он повествует». Мы приведем здесь только пример. Эхо утопического социализма явно слышится в нескольких романах Верна, но конкретный источник этих идей остается еще одной нерешенной проблемок. Переписка Жюля Верна 1860-х годов могла бы содержать сведения, которые пролили бы свет на его связи с последние сенсимонистами или с нантским земляком, доктором Гепэном, известным приверженцем фурьеризма и автором монументального труда «Философия XIX века. Энциклопедическое изучение мира и человечества» (1854).
Мы не можем недооценивать личного восприятия некоторых событий его жизни. Известно, что писателя считали ремесленником, находящимся на периферии литературного процесса своего времени. В одном письме, адресованном Этцелю, он ссылается на «малую значимость в нашей литературе этих книг, предназначенных в первую очередь для молодежи», и продолжает: «Я вспоминаю, что Поль де Сен-Виктор, говоря об авторах «Журнала воспитания и развлечения», не счел нужным упомянуть меня». И в заключение: «Дорогой друг, не обижайтесь, но ни в коем случае не стройте иллюзий относительно этой литературы и преданного вам Жюля Верна, который, впрочем, был бы и не способен делать что-либо другое!».
К сожалению, отношение Поля де Сен-Виктора не было исключением. Большинство критиков и историков литературы, казалось, намеренно игнорируют само существование своего знаменитого соотечественника. А если уж они вспоминают о нем, то наподобие Тибоде — цитируя его мимоходом, или Лансона, посвятившего ему почти презрительные полстрочки. Даже Анатоль Франс проявил непростительную близорукость, заявив: «Простодушные мальчишки, поверив на слово Жюлю Верну, воображают, что на луну действительно можно попасть в пушечном снаряде... В этих карикатурах на благородную науку о небесных пространствах, на Древнюю и уважаемую астрономию, нет ни истины, ни красоты» («Книга моего друга», 1885).
Это пренебрежение проявляется во всем. Жюль Верн стал кавалером ордена Почетного Легиона в 1870 году, но звание офицера ему присвоят лишь в 1892 году в возрасте шестидесяти четырех лет, по ходатайству, сделанному еще в 1886 году Фредериком Пети, сенатором — мэром города Амьена. Щедрость правительства Третьей Республики на этом кончается. Жюль Верн не станет командором Почетного Легиона и даже не получит академических пальм, знака отличия, который раздавали весьма щедро. Что же касается Французской Академии, вершины официального признания, то вот горькие строки из того же письма к Этцелю: «Недавно перечисляли романистов, которые могли бы претендовать на избрание в Академию. Какая-то газета называла Доде, Гонкура, Фабра, Феваля и т. д., всех, кроме меня. Следовательно, я делаю вывод, что если бы я выдвинул свою кандидатуру, многие пожали бы плечами». В 1892 году в другом письме к Этцелю он пишет: «Вступить в Академию между сорока и пятьюдесятью еще можно; когда же тебе идет шестьдесят четвертый год, уже не стоит и стараться. Со столь незначительными шансами на успех, я ради этого и пальцем не шевельну: по всей видимости, мой жанр не является академическим».
При чтении этих писем естественно возникает вопрос: почему же Жюль Верн остался верен жанру, обрекавшему его на хроническую недооценку? Действительно ли он был «неспособен делать что-либо другое»? В свете фактов это утверждение кажется скорее косвенным и горький ответом. До того, как стать постоянным сотрудником «Журнала воспитания и развлечения», он писал комедии, пьесы в стихах, либретто комических опер, новеллы, научно-популярные статьи. Одноактная пьеса «Разломанные соломинки» выдержала двенадцать представлений в Историческом театре, основанном Александром Дюма. Но меру возможностей молодого писателя доказал «Мэтр Захариус», рассказ, опубликованный в 1854 году в журнале «Мюзэ де фамий», выявил его явную склонность к фантастической литературе. Мы невольно задаемся вопросом, какова была бы судьба «Необыкновенных путешествий», если бы автор не задумал и не писал бы их специально для юношества. Так или иначе, под плавным потоком жюльверновской прозы кроются глубины и утонченность, о которых подозревали лишь немногие современники писателя. Среди тех, кто позже упомянул об этом, надо назвать Жоржа Калинеску: «Сила видения его порою не уступает Виктору Гюго. Его стиль очарователен, остроумен и чрезвычайно пластичен. Смелые картины, созданные на основе конкретных гипотез и научных предвидений, завораживают словно галлюцинации». Впрочем, некоторые произведения, изданные посмертно, например, «Потерпевшие кораблекрушение на „Джонатане"» и «Вечный Адам», не имеют ничего общего с детской литературой. Мы даже осмеливаемся полагать, что они бы никогда не были напечатаны при жизни писателя.
Объяснение верности Жюля Верна своему жанру можно искать и в обязательстве перед Этцелем. Шесть договоров, подписанных один за другим, обязывали писателя обеспечить издательство двумя, тремя, и снова двумя книгами в год. Он работал над ними без отдыха и с регулярностью метронома, и это привело впоследствии к значительному «перепроизводству». Начиная с 1890 года Жюль Верн пишет в счет следующих лет, накопляя рукописи, которые будут переданы издателю не обязательно в порядке их написания. По мере приближения к 1900 году запас растёт. В письме от 15 января 1902 года, адресованном тому же Марио Туриелло, мы читаем: «В этом году выйдет в свет моя восемьдесят третья книга, но у меня готовы еще шестнадцать, а та, которой я сейчас занят, будет сотая. У меня есть все основания полагать, что последние будут изданы посмертно!». Таким образом, по крайней мере в последние пять-десять лет своей жизни, писатель мог выкроить время, необходимое, чтобы попытаться вырваться из сферы «неакадемического жанра». Но, как мы уже уяснили, вопрос был вовсе не во времени и не в возможности. Нужно было, чтобы Жюль Верн захотел написать и, главное, опубликовать нечто другое, захотел отказаться от своего замысла, родившегося десятилетия назад, когда он проводил целые дни в Национальной библиотеке, глотая трактаты и научные журналы. Для этого ему пришлось бы прервать работу над «Необыкновенными путешествиями», вкратце должны были, как отметил Этцель в предисловии к первой книге, «резюмировать все географические, геологические, астрономические, физические знания, накопленные современной наукой, и в живописной, занимательной форме создать универсальную картину мира», и нужно было что-то еще...
Я обещал, что мы вернемся к «алиби» детской литературы, к идее, которую с горячностью поддерживает Жан Шено и которая была высказана гораздо раньше другими. Раймон Руссель писал в 1921 году Лери: «Он (Жюль Верн) является величайшим литературным гением всех времен; он останется, когда все прочее авторы нашей эпохи будут давно забыты. Впрочем, заставлять детей читать его столь же чудовищно, как и заставлять их заучивать басни Лафонтена — они так глубоки, что даже мало кто из взрослых способен оценить их». Современные комментаторы, более осторожные в формулировках, желают нас убедить, например, как Шарль Мартен, что «ярлык детского писателя... является плодом самовнушения, поддерживаемого окружением и, главным образом, Этцелем». Но каково же мнение самого писателя?
В 1896 году Эдмондо де Амичис посетил Верна в Амьене, желая развеять глупую легенду, распространявшуюся людьми, вроде его друга из Турина, заявившего ему веред отъездом: «Ты отправляешься повидать Жюля Верна? А что если он не существует? Ведь все знают: „Необыкновенные путешествия" принадлежат группе писателей; взявших коллективный псевдоним!» Автор «Сердца» вернется потом в Италию не только убежденным в чуде, совершенном трудолюбивым и методичным гением одного человека, но и с волнующим признанием. Жюль Верн сказал своему молодому собрату: «Причина популярности моих книг в том, что я готов пожертвовать искусством, но не напишу ни страницы, ни фразы, которую не могли бы прочесть дети, для которых я творю... и которых люблю». Это заявление, очевидно, кладет конец всем спекуляциям на тему: для кого писал Жюль Верн и на кого ориентировано его творчество. Нужно остерегаться опасных упрощений.
Марсель Морэ перебарщивает и тогда, когда пытается установить сходство между Жюлем Верном и Ницше, основываясь на том, что последний писал в предисловии 1886 года к «Авроре»: «В этой книге вы прочтете о человеке из подполья, человеке, который буравит, роет, долбит»; или на том, что оба ценили Стендаля и восхищались Вагнером. Не упоминая остальных «точек совпадения», указанных французским исследователем, мы остановимся на главном аргументе, приведенном в качестве неоспоримого доказательства влияния Ницше на Жюля Верна. Речь идет о последнем абзаце новеллы «Вечный Адам»: «Испытывая тягостные терзания из-за неисчислимых бедствий, которые выпали на долю живших до него, сгибаясь под тяжестью этих тщетных усилий, слившихся в бесконечности времени, … медленно и мучительно, но вместе с тем глубоко убеждался в вечном возобновлении жизни».
Морэ делает вывод: что могло внушить Жюлю Верну идею вечного возобновления жизни, как не чтение философских работ, в которых эта тема занимает центральное место? На сей раз сходство кажется вполне естественным, хотя в произведениях и переписке Жюля Верна; нигде нет ссылок на немецкого философа. Но все-таки не стоит забывать слов знаменитого французского францисканца Гийома д’Оккама: «Не следует умножать гипотез, в этом нет необходимости». Иначе говоря, прежде чем прибегать к сложным и сомнительным предположениям, нужно исчерпать простые и легко проверяемые. И на риторический вопрос, «что могло внушить Жюлю Верну идею вечного возрождения», мы ответим, что эта идея проходит через всю романтическую литературу, а источником ее является, вероятно, теория геологических катастроф Кювье. Знаменитый французский ученый объяснял исчезновение целых видов растений и животных катаклизмами, которые неоднократно разрушали жизнь на земле. Отсюда и описание древних цивилизаций в «Падении ангела» Ламартина или в «Исчезнувшем городе» и в «Огне, упавшем, с неба» Гюго. И почему бы литературный источник «Вечного Адама» не поискать в диалоге Платона об Атлантиде, в мифе, который, изменившись в. соответствии со временем, навязчиво; повторяется в «Необыкновенных путешествиях». Доктор Клоубонни из «Путешествия капитана Гаттераса» цитирует астронома Байи, утверждавшего, что атланты жили на Северном полюсе; капитан Немо ведет профессора Аронакса со дна океана к развалинам затонувшей столицы; оставшиеся в живых после всемирной катастрофы в «Вечном Адаме» обнаруживают эти развалины на вышедшем из-под воды континенте. Можно продолжить эту игру, перечисляя авторов произведений, вдохновлявшихся гипотезой о мировой катастрофе еще до Жюля Верна. Во всяком случае, Ницше к этим спекуляциям не имеет никакого отношения. В размышлениях профессора Аронакса из «Двадцати тысяч лье под водой» (1870): «Быть может, когда-нибудь вулканическая деятельность поднимет на поверхность эти руины». Сайрес Смит развивает ее в «Таинственном острове» (1874-1875). И вот, наконец, в «Вечном Адаме» (дата написания неизвестна) Верн снова возвращается к этой теме и развивает ее: «...Доктор Морено выдвинул гипотезу, что все это осталось от древней Атлантиды, а вулканический взрыв извлек эти остатки на поверхность». «...Весь Американский материк находился под водой»; «Плывя на юго-запад, «Виргиния» достигла сначала Тибетских гор, а затем Гималаев. Здесь должны были находиться высочайшие вершины земного шара. Но ни в одном направлении ничто не нарушало бескрайнюю гладь океана». «...Мы пересекли цепь Уральских гор, ставших теперь подводными, и плыли над тем, что когда-то называлось Европой».
Столь значительное место, которое пришлось отвести для освещения этой проблемы, объясняется серьезными противоречиями гипотезы Марселя Морэ, который доходит до того, что даже ставит во главу угла тезис о некоем «верновском ницшеанстве» и задает вопрос: «Не является ли зартог Софр-Аи-Ср в какой-то мере самим Жюлем Верном, который провел последние годы жизни, расшифровывая ребусы, получившиеся во французском переводе произведений Ницше?». Однако, несмотря на пессимизм последних лет жизни писателя, причина которого в личных обстоятельствах и социальных факторах времени, идеи книг Верна далеко не тождественны идеям его псевдомодели Ницше. Даже «Вечный Адам» с темой мировой катастрофы и научного заблуждения доказывает, что оптимизм Жюля Верна, как и его героя, всего лишь был резко поколеблен, но не сломлен. Растения и животные приспосабливаются к суровым условиям последнего убежища. А оставшиеся в живых подхлестывают свой притупившийся разум, «чтобы завоевания человечества не исчезли бесследно», чтобы «облегчить тягостный путь неведомым братьям, не питая надежд на то, что их труд будет по достоинству оценен...».
Помимо сомнительных утверждений, на которые мы указали, работа Марселя Морэ содержит и весьма обоснованные замечания. Например: «...Он (Жюль Верн) предчувствовал, что машина, становясь день ото дня более усовершенствованной и, занимая все более и более важное место в жизни человека, позволит ему подняться над уготованной ему судьбой вооруженным возросшим потенциалом, однако не без риска создать апокалиптическую атмосферу, неведомую прежним векам. Рассматривая столь новую и столь драматическую проблему не в философских трудах, а в романах, написанных прежде всего для развлечения юношества, разве мы не в праве сказать, что, Жюль Верн проводил „подпольную“ работу, имеющую в некотором роде революционный характер? Безусловно. Но эта революционность не выражается лишь местом, отведенным машинам и науке. Исследования последних десятилетий показали постоянное присутствие в творчестве Жюля Верна трех главных течений: позитивистской традиции, отголосков утопического социализма и анархического индивидуализма. Для нас эти понятия имеют скорее уже историческое значение. Но можно представить себе, какова могла быть реакция подданного Второй империи, помнящего бонапартистский переворот 1851 года, реакция подростка и юноши, воспитанных в духе почтения к императору и установленному порядку, когда они читали бунтарские фразы Немо: «Море не принадлежит деспотам. На его поверхности они еще могут сражаться, истреблять друг друга, повторять все ужасы жизни на суше. Но в тридцати футах под водой их власть кончается, их влияние гаснет, их сила исчезает. Ах, профессор, живите в глубинах морей! Только здесь полная независимость, только здесь человек поистине свободен, только здесь его никто не может угнетать!».
Совершенно справедливо нам могут возразить, что автора не следует смешивать с его героем. Но Жюль Верн как-то сказал: «Если я не всегда могу быть таким, каким мне следовало бы быть, то пусть, по крайней мере, мои герои будут такими, каким я желал бы быть сам». И Маргарет Алжип де Ля Фюи на страницах, посвященных роману «Двадцать тысяч лье под водой» пишет: «Из всех персонажей, созданних Жюлем Верном, человек моря Немо — в наибольшей степени тот, в кого он вложил свои склонности. Писатель отождествлял себя с ним». И дальше: «Свобода... Жюль Верн полюбил ее романтическим порывом людей, которым было двадцать лет в 1848 году... Немо, преображенный человек 1848 года. Он преследует деспотов и защищает свободу угнетенных Народов. Непреклонный, он топит фрегат угнетателей и великодушно дарит сокровища народам, борющимся за независимость».
Но об этом отождествлении было сказано вслух лишь в 1928 году. А за тридцать с лишним лет до выхода в свет книги его внучатой племянницы, в пору добровольного уединения в Амьене, когда критика и официальные круги считали его беллетристом второго разряда, Жюль Верн чувствовал себя «самым неведомым из людей» и упорно продолжал свою деятельность «подпольного революционера». После того как он сознательно выбрал себе читателей; он методично и постоянно внушал им в своих «Необыкновенных путешествиях» знания, идеи, чувства, необходимые, чтобы встретить предстоящие перемены и самим их предопределить. Ибо, как говорил его alter ego капитан Немо: «Земле нужны не новые континенты, а новые люди».
Л-ра: Нева. – 1978. – № 2. – С. 193-197.
Произведения
Критика