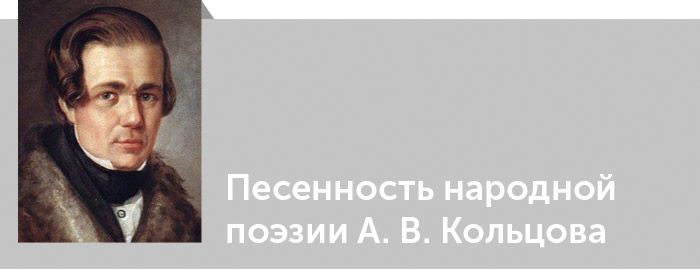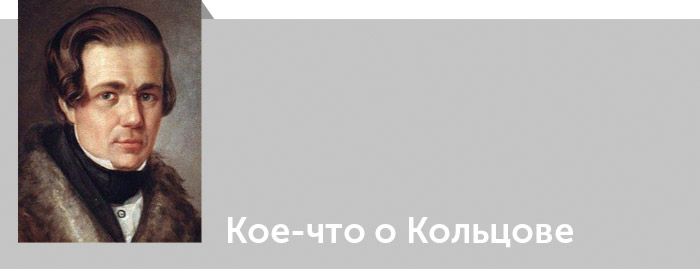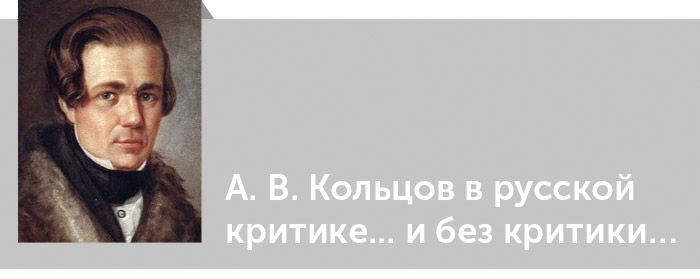Судьбы поэзии золотого века: Алексей Васильевич Кольцов
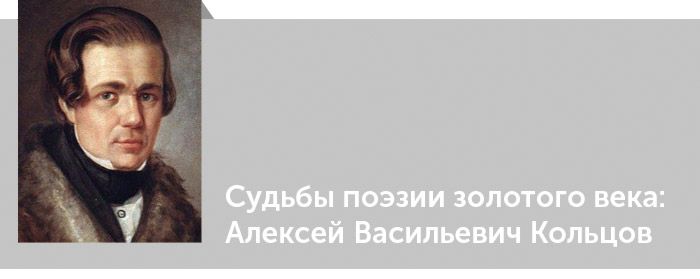
Елена Третьякова
Юбилеи, в общем-то, довольно основательная проверка на память и беспамятство. За тридцать лет – от 1999-го до 2030-го – на одних юбилейных публикациях мы вновь прошли бы пушкинский путь к художественному реализму, если бы сумели быть верны гениальному поэту: не модернизировали классическое наследие, не подменяли суть жизненных процессов постмодернистской игрой с текстами. Все это так далеко от сути!
За суетой незаметно первую дюжину годков нового века разменяли. В 2009-м минул юбилей Кольцова. Но все осталось так же. Движемся не в гору, а с горы, ничего существенного не говоря о природе процесса, который дал нам Пушкина и Кольцова. Ни в академической науке, ни в журналистике не поднят вопрос об эпическом компоненте золотого века отечественной культуры, да и в программе школ, глядишь, то ли вообще уберут предмет «Литература», то ли оставят в списке для чтения не классику, а пелевиных-донцовых.
Как же на деле поддержать, вернуть из былого забытое потомками языковое чудо, которому мы обязаны пушкинским лаконизмом и кольцовской простотой? Как объяснить, почему в русском человеке благодаря языку не засыпает жажда петь, отчего наиболее верной дорогой к сердцу читателя и слушателя оказывается простота речи? Почему лишь она надежно защищает народ от опасности разнародиться в бессмысленную толпу? Круг серьезных вопросов можно ширить и дальше, однако сколько ни черти круги на мишени, чтобы попасть в яблочко, надо не спрашивать, а отвечать. Надеемся, возвращение к разговору о судьбе Кольцова и о месте его творчества в ряду явлений золотого века поможет нам в этом. По крайней мере, поймем, что пересечение творческих задач, решенных Кольцовым и Пушкиным, не было случайным, научимся благодарно ценить прозрачность их языка. Там, где колосятся урожаи пушкинской и кольцовской нивы, найдем для себя не наспех сорванный букетец метафор («Ах, мол, стихи Кольцова – васильки во ржи!»), а пример словесности, не разрушающей эпическое самосознание народа.
– Знаем, возразят скептики, это немецкие философы романтизма придумали. Эту теорию доказывали в начале XIX века они, а за ними, с еще большей увлеченностью, и русские любомудры в «Московском вестнике» и других своих журналах.
Что ж, правильно. Любомудры считали своим лучшим наставником Пушкина, да и Александр Сергеевич относился к «Московскому вестнику» (1827–1830) как к своему детищу. Они стремились применить теорию народности на деле, в жизни и в литературе: укоренить практики книжно-журнального общения в эпическое целое русской культуры. Эти усилия дали начало золотому веку отечественной словесности: восстановили алгоритм устойчивой передачи эпического компонента в языке. Алгоритм восстановится и в XXI веке, если будем действовать по-пушкински и по-кольцовски – примкнем к 200-летней давности процессам, деятельными участниками которых были Кольцов, Пушкин, Карамзин со своей «Историей государства Российского».
Эпос, как шар, накапливает лучи зеркального подобия прошлой / будущей истории народа. Он весь – огромная призма, сквозь которую пропущено все, что было с нашими предками. А чтобы призма вместила все, что происходит с нами, нужно нам самим освоить эпическое восприятие мира. История щедрой рукой разбрасывает намеки на то, что давно уж пора юбилейные даты родной культуры отмечать не впустую, накапливать эпический потенциал.
Вспомним, например, последнюю записанную рукой Николая Михайловича Карамзина мысль: «Орешек не сдавался…» Не трудно простым подсчетом убедиться в том, что героический момент – оборона крепости Орешек (1611–1612 годы) отстоял от Отечественной войны с Наполеоном ровно настолько, насколько отстоит от нас начало золотого века отечественной словесности. Неужели зеркальность отрезков родной истории оставит нас холодно-равнодушными, совсем безразличными, чужими по отношению к ним? Ведь все это отнюдь не незапамятные времена.
Да и слово незапямятные не означает «безнадежно выпавшие из памяти». Прислушайтесь к тому, что говорит сам язык, внутренняя форма слова. Не-за-памятное – то, что не запамятовалось, не выпало за границ памяти человеческой, а укрылось за поверхностными слоями, ушло в матрицу (ментальную подоснову структур психики людей, по К. Юнгу, коллективное бессознательное). Слово забыли тоже не знак бесследных потерь. За былым стоит громада общечеловеческого опыта, возобновляемого силою судеб: было и будет – однокоренные слова (у них одна древнейшая этимологическая основа *bu). Все это именно так по объяснениям выдающегося русского ученого Александра Афанасьевича Потебни, не менее проницательного, чем Карл Юнг. Учение Потебни о внутренней форме слова в языке серьезно продвинуло гумбольдтианскую теорию. По духу своему и по времени создания принадлежащее культуре золотого века, оно объясняет фундаментальные законы внутриязыковой сохранности культурного предания [1].
Как и иные данности золотого века, это учение само есть плод самосознания, тип которого правильнее всего называть эпическим, широким, неиндивидуалистским – в противоположность более узкому индивидуалистскому. Современники Кольцова и Пушкина, ощущая различия между ними, говорили русское / французское. Что под этим кроется? По типу развития русский язык – аналог древнегреческого: эпический компонент не был утерян внутренней формой слова благодаря взаимодействию православной книжности с устным преданием восточных славян. На становление французского и всех романских языков-наследников латинского влияли в основном практики письменной речи. Таким образом, в конгломерате культур Средневековья и Нового времени действовали два принципиально разных типа переработки смысла: первичный и вторичный. Первичный (Ломоносов, Пушкин говорили о нем первобытный), в силу верности дописьменным древним способам переработки смысла, не подавлял эпическое самосознание народа. Вторичный становился причиной заката культур в кризисные для индивидуалистского самосознания эпохи.
Пушкин мальчишкой перечитал всю французскую библиотеку своего отца, грамматику французскую освоил пожалуй что раньше русской. Однако, взрослея, старался перебороть «проклятое французское воспитание» (индивидуалистический компонент), чтобы стать настоящим эпическим поэтом.
А как обстояло дело с Кольцовым? Рука судеб, будто специально старалась устранить влияние книг на первоначальную детскую и отроческую пору его умственного становления. Мальчика с младых ногтей приучали к практической жизни и ежедневным делам отца. Сколотивший немалый капитал воронежский прасол Василий Петрович Кольцов смело развертывал и другие доходные промыслы. Тянуть купеческую лямку тяжело. Нужен был сын-помощник, а не книгочей. Чтобы умел ладить с гуртовщиками, руководить полевыми работами, вести торговлю скотом, лесом, пшеницей… Алеша рос очень способным. Хотя к поступлению в уездное училище ему приходилось готовиться урывками, приняли сразу во второй класс. Однако отец почти тут же забрал – не дал пробыть и четырех месяцев.
Вот и вся тебе книжная премудрость, включая самостоятельно купленные в лавке купца Кашкина и доставшиеся от Варгина книги – немудреная библиотечка в несколько десятков штук… А ум сформировался недюжинный. Ум креп и рос в опоре на устное освоение родной речи. Богатые внутренние возможности раскрылись без книжных вмешательств: язык сам запел в одаренном человеке, и современники увидели чистый образец некнижно выпестованного русского таланта. На почве абсолютно чисто поставленного судьбой эксперимента как объективный факт подтвердилось: самовоспроизводящаяся матрица русского языка вполне с этим справляется. И по природе своей эта матрица эпична.
Творения гения выдают, воочию являют ее стихийную природу (ген языка). Эти творения не «васильки во ржи». На просторе эпического самосознания лирика, думы, песни рождаются как фрагменты едино и слитно написанного многофигурного полотна. Зрелый плод поля русской культуры – хлеб духовный – содержит у своего основания христианское зерно.
В том, как переживают Кольцов и его герои свои радости и житейские невзгоды, видно, что борьба индивидуальных начал испытывает на прочность весь внутренний мир человека. Испытания крушат остов нравственных сил, если ум даст слабину; упрочивают и закаляют, если не погас душевный жар.
Слабый ум судьба страшила,
Холод в душу проникал.
Но не пал я от страданья,
Гордо выдержал удар,
Сохранил в душе желанья,
В теле – силу, в сердце – жар!
На думе «Последняя борьба» (1838) лежит ничем не отменяемый отпечаток сокрушительной бури, строки родились под бременем горькой утраты: «Закатилось солнце русской поэзии» [2]. Но сквозь боль и понимание, как это тяжело остаться без Пушкина, в них явственно проступила и закалка громами небесными. Кольцов создал настоящий шедевр христианской героики – исповедание сердца, которое нашло силы принять и смиренно нести Богом данное страдание.
Посылая это произведение Белинскому [3], Алексей Васильевич заметил: «“Последняя борьба”, может, пахнет Пушкиным – не спорю; но в ней своя форма, свои следствия битвы» [4]. Пахнет сказано так, что мигом перенесешься в Лукоморье: «Там русский дух, там Русью пахнет». Волшебная поэзия русской сказки заберет в полон, обступит тебя. Однако есть в русском языке и глагол пахнёт, у Кольцова он встречается, например, в стихотворении «Косарь» («Ты пахни в лицо, / Ветер с полудня!»), означающий мимолетное, легкое дуновение аромата. Можно, конечно, и не задумываться о соприсутствии этих двух значений. Но задумаешься – поразишься: вот уж где язык сам силой и властью своей, идущей от внутренних возможностей слова, делает людей поэтами! Чутье само подскажет: да тут о чем-то нежном идет речь, рожденном под сенью мадригала или элегии.
Литературоведы давно установили, что мелодический строй и тема «Последней борьбы» имеют связь с пушкинским стихотворением 1828 года «Предчувствие»:
Снова тучи надо мною
Собралися в вышине
. . . . . . . . . .
Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Может быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду
. . . . . . . . . .
Ангел кроткий, безмятежный,
Тихо молви мне: прости,
Опечалься: взор свой нежный
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье
Заменит душе моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней.
Однако, как и сказал Кольцов в письме к другу-критику, в «Последней борьбе» есть «своя форма, свои следствия битвы». Эти следствия битвы знаменательны: человека закалило огнем бед.
Пушкинское «Предчувствие» намечает абрис христианских мотивов кистью тонкой и полной изящества. Прощание с милой, печаль разлуки и неизвестность: что выпадет впереди? Либо, подобно декабристам, затворничество «во глубине сибирских руд», либо, подобно Ариону, спасение на водах… Стихотворение достойно украсить альбом нежной дамы. Как вздох, не омрачающий ее воспоминания, оно не тяготит младенческую душу, лишь чуть тревожит юную светлую грусть. Перенося на свое эпическое полотно тему, Кольцов взял эту, будто фарфоровую, вещицу в руки и, чтобы она, столь хрупкая, не разбилась, укрыл поглубже: сохранил и когда над головой не предгрозовые тучи, а страшная буря понеслась. «Надо мною буря выла, / Гром по небу грохотал». Отгрохотали невзгоды, испытали человека на стойкость и веру… После этого и сама душа оказалась одета в крепчайшую броню, и тема житейских бурь претворилась в соответствующий, куда более прочный материал.
Мы вернемся к тексту «Последней борьбы», когда придет черед сказать, как на сегодняшний момент обстоит дело с знанием произведений поэта. Да и о выдающихся заслугах Кольцова в разработке жанра дум поговорим особо. Сейчас важнее подчеркнуть, что самобытный философский ум имеет воспитателем родной язык, а не учения вроде шеллингианской натурфилософии или гегелевских идей об абсолютном разуме. Греки (Сократ) и римляне (Цицерон) называли развитую сообразительность и способность запоминать природными добродетелями. Память и сообразительность Кольцова тренировала даже не фольклорная поэзия (о ее уровне можно судить по кольцовским же замечаниям, которыми поэт сопроводил посланные В. Ф. Одоевскому песни из городского фольклора воронежцев), а мудрость, не стираясь прошедшая через сорок уст.
Перетекающая из уст в уста речь варьирует способы индивидуализации смысла: субъективный (от имени собственного я), коллективный (от мы), межсубъектный (я – ты), от третьего лица (он, она, оно, они). Как же при этом не дробится, не искажается суть? Суть цела, если ум молчаливо придерживается стержня языковой способности, который никаким местоимением не маркирован и ни одному из средств индивидуализации не подчинен. В русском языке есть слово совесть. Со-весть (смысл, единый и нераздробленный) – эпический стержень всех «говорливых» компонентов главенствует как одностороннему восприятию смысла не подвластный. Без этой опоры первичной «безавторской» стихии архаических языков органичное развитие невозможно, вторичные переработки смысла перечеркивают и прерывают преемственность этого развития.
Уже в первой трети XIX века отечественные реформаторы литературного языка, желавшие упрочить язык как основу книжного распространения просвещенных взглядов и устного общения образованных людей, вполне осознанно искали альтернативу французскому опыту. Язык французских классиков XVII столетия, построенный на основе придворного жаргона времен Людовика XIV, отжил свое и был отброшен вместе с аллегориями театра-маскарада «блистательной монархии».
Реформу русского литературного языка отличала опора на эпический компонент. Это сплотило лучшие умы и силы многонациональной России, высветлило общность людских судеб православно-христианскими началами. Несмотря на пройденную в XX веке полосу недугов и бедствий, русский язык по внутренней форме слова и ныне сохранил жизнеспособность не меньшую, чем во времена, когда сияло «солнце русской поэзии». Он подспудно поет, тянет душу в приволье, которое нельзя ограничить, как нельзя отменить гравитацию Земли. Такая энергия способствует правильному возделыванию поля жизни. В мифе русской национальной культуры (миф есть глобальная самореализация возможностей письменного / устного предания), как на широком поле, никому не тесно – каждый добрый злак поднимется и, набрав полный колос, сполна отдаст урожай зерна на благо матушке-земле и ее людям.
Но потомки 200-летней давности сиротеют вдали от этого привольного чуда, все вязнет в индивидуализме и его инновациях. Иванов, не помнящих родства, окончательно отучают от живой речи: ставь в бланках ЕГЭ крестики вместо ответов. Какой там Пушкин! Какой Кольцов!
Моложавая работница музея поводит тонкой указкой по витражному стеклу. В экспозиции среди старинных предметов вывешен казачий рушник с не вылинявшим за сто лет ярким узором. На самотканом полотне рука безымянной мастерицы красным по белому вышила: ПОДЪ КРЕСТОМЪ МОЯ МОГИЛА НА КРЕСТЕ МОЯ ЛЮБОВЬ. Ни экскурсовод, ни один из участников экскурсии знать не знает, что это слова из стихотворения Кольцова… Грех спрашивать с учителей и с экскурсоводов, когда весь нынешний массив печатной продукции к юбилеям писателей, чье творчество составило золотой век, сплошь вторичен. Глаз скользит по страницам, но ничто души не живит, не радует… Хотя дискуссию о кризисной культурной ситуации выносят на конференции и обеспечивают грантами, выпускают сборники научных статей о «языковом вкусе эпохи» (разумеется, вкусе индивидуалистическом), за помпезностью уже не скрыть истощения сил – такого же, каким закончилась борьба модернистских литературных группировок в 1923–1924-м годах.
Для иного осознания проективных задач неплохо бы вспомнить другую эпоху – «дней Александровых прекрасное начало» и первые десятилетия после победы над Наполеоном. Тогда литературные кружки и общества ставили целью устранить засилье французского элемента, открыть простор элементу русскому, чтобы индивидуалистический тип образованности не преграждал дорогу неиндивидуалистическому. И реформа литературного языка придала культурным силам нации характер взаимодействия не механический, не через соперничество идей. Книжная (письменная) / некнижная (устная народная) речевая практика укореняла в почву эпического самосознания все здоровое и наиболее ценное для культуры. Это называют «пушкинским началом золотого века». Но установку «Писать, как говорят, и говорить, как пишут» сформулировал Н. М. Карамзин и сам последовательно работал над ее воплощением в своей «Истории», первые восемь томов которой русская публика получила в 1818 году (Пушкин и его единомышленники считали себя карамзинистами).
Эпическое самосознание – перекресток, с которого открыты пути во все стороны света. «Способность созерцания – способность синтетическая, – написал в своей статье о Кольцове М. Е. Салтыков-Щедрин. – Она дает <…> возможность усматривать строй и гармонию в разрозненных данных, добываемых анализом, группировать их и вообще обращаться с ними, как с матерьялом, преисполненным жизни и значения <…> масса добра все-таки тяготеет над массою зла. Эта-то сознательная уверенность и дает художнику право быть спокойным и употреблять все усилия, всю энергию на водворение в мире добра и истины и искоренение зла» [5]. Эпический синтез не однонаправлен, он исключает диктат какой-то системы идей, интересов той или иной социальной или эстетической группировки.
Когда Н. А. Полевой стал обвинять «Историю государства Российского» за то, что все взято из летописей и нет современной трактовки, Вяземский сказал, что Карамзин не думал «протащить историю сквозь иглиные уши идей». Пушкин в подборке замечаний о литературном процессе, опубликованной «Московским вестником» (1828), назвал эстетические учения сектами, каждая из которых имеет свои недостатки и достоинства. Не будучи склонен к однобоким трактовкам, Александр Сергеевич подчеркивал: «Односторонность есть пагуба мысли» [6]. И образцы оценки, не ангажированной идеями, следует искать в первую очередь у Пушкина.
«Кольцов обратил на себя общее благосклонное внимание...» По этой полуфразе из «Письма к издателю» (III том «Современника») трудно догадаться, кто стоит за неким А. Б. из Твери. Но не «печатно скрываться», а плотно сконцентрировать самое важное и достичь эпического результата стремился автор заметки. Оценка подана как не инициированная самим пишущим (ср.: «Я обратил внимание…» – «Кольцов обратил на себя общее внимание»), неавторская («общее внимание») и склоняющая к добру («внимание благосклонное»). Криптоним А. Б. не так уж прост. Свой болдинский цикл повестей Пушкин препоручил Ивану Петровичу Белкину («Повести Белкина»). С аналогичным приемом имеем мы дело и тут: А. Б. – тот же Белкин, но не Иван, а Александр («азъ – буки» можно прочитать и как «Азъ есмь Буки»). Такого рода искрящиеся юмором, преисполненные не хитростью, а добротой уловки выдают почерк большого мастера.
Со времен основания «Литературной газеты» (1830–1831) Пушкин последовательно приобщал к пространству эпического общения и журналистику. Ф. В. Булгарин уже тогда, настороженно уловив эту особенность редакторской позиции, съязвил, что авторы этого издания намерены «печатно скрываться» (мы процитировали эти слова из «Северной пчелы»). Первые публикации стихов Кольцова в столичных изданиях тоже относились к 1830–1831 годам. Среди них стихотворение «Перстень», присланное Н. В. Станкевичем в «Литературную газету». Пятью годами позже на страницах «Современника» был помещен «Урожай».
Жуковский и Плетнев, которым довелось вести журнал после дуэльной трагедии 1837 года, разделяли замыслы Пушкина и по мере сил продолжали начатое, уже без Александра Сергеевича, но отнюдь не в разрыве с его начинаниями. Возьмем на себя смелость утверждать, что вне подобной стратегии, бескорыстно притягивавшей к себе все наиболее талантливое, совестливое и нравственно чистое, обществу было бы труднее выстоять, компенсировать новым и новым приливом талантливых людей утраты, которые одну за другой несла русская поэзия с конца 1830-х. Пушкин, Жуковский, Вяземский, Одоевский, Плетнев, при жизни Кольцова принимавшие деятельное участие в его судьбе, увидели и поддержали развитие эпического таланта. Сами твердо став на перекресток, они не думали о первенстве какого-то одного из «направлений». Между тем, именно из-за идей, которые исповедовали критики (не один Белинский, но и большинство других, начиная с 1840-х годов), возникали разногласия в спорах о поэте-прасоле.
Почти все обнародованные за первые 15 лет оценки творчества Кольцова имели достаточно основательный и целостный характер: сказалось и время само по себе, отнюдь не склонявшее к легковесности, и знакомство авторов статей с личными качествами Кольцова-человека. Обстоятельства воронежского житья-бытья, порой до мельчайших подробностей, вставали из устных рассказов Кольцова и писем, которые он посылал.
Эти письма сами заговорили с читателем, когда Виссарион Григорьевич Белинский включил их в статью «О жизни и сочинениях Кольцова», сопровождавшую томик стихов, изданный в 1846 году. Эта статья была и осталась одной из лучших работ главного критика «Отечественных записок». На трактовку, данную Белинским, самостоятельно и дельно возражал В. Н. Майков, через 10 лет – М. Е. Салтыков-Щедрин, досконально изучивший русскую провинцию за годы пребывания во Владимире, в Вятке и еще ряде поволжских городов.
Подходы к творчеству Кольцова не столько варьировались, сколько развивали споры об эстетике «чистого» (неутилитарного – В. П. Боткин, П. В. Анненков и др.) и «практического» (социально ориентированного – Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский и др.) искусства, пока в 1870-х не настал черед народников. К ним прислушивались в первую очередь вплоть до Первой русской революции, прогремевшей в год столетнего юбилея Кольцова. Отдать дань талантливому певцу земледельческого труда считали своим прямым долгом признанные писатели, публицисты, столпы академической науки (И. С. Тургенев, Г. И. Успенский, Н. Г.Чернышевский, В. П. Острогорский, А. Н. Веселовский, Н. И. Черняев и др.).
И октябрьская 1917 года переплавка политических событий не перечеркнула, а по-своему возвысила дорогое народу имя: внушительным образцом монументальной пропаганды идеалов новой культуры масс стал памятник Кольцову у стен Китай-города, возведенный наряду с тремя другими мемориальными фигурами (Иван Никитин, Тарас Шевченко и Максимилиан Робеспьер). Однако отношение к Кольцову было уже не тем что прежде. Суть изменений достаточно хорошо видна по сочиненному к открытию монумента стихотворению С. Есенина «О Русь, взмахни крылами».
В первую годовщину Октябрьской революции Москва кипела и радостно митинговала, размахивая знаменами. Есенин понимал, что фигура Кольцова «средь телок и коров» не годится для знамени – разве что на хоругви вышить, червонными нитками («идет в златой ряднине») по голубому фону. Так у первовожатого крестьянских поэтов появились иконописные атрибуты («В руках – краюха хлеба, / Уста – вишневый сок» – что-то вроде претворения хлеба и вина), дополненные метафорой «вызвездило небо / Пастушеский рожок», развитие которой Есенин отодвинул в финальную часть стихотворения, где звук свирели назван «звездным шумом» и идет речь о грядущем поколении певцов. Не к Кольцову, а к наиболее близкому для Есенина и его современников окружению, условно говоря, от Клюева до Чапыгина, был обращен призыв: «О Русь, взмахни крылами, / Поставь иную крепь!»
Николай Клюев вылеплен Есениным из размытых ассоциаций белого («с снегов и ветра, / Из монастырских врат») цвета: сквозь «резьбу молвы» проступают блики смирения, которые то ли лучатся, то ли стираются «с бескудрой головы» монашествующего учителя. Собственный портрет стихотворца, напротив, дан на фоне густо-черном, бугрящемся новыми и новыми хребтами гор («А там, за взгорьем смолым, / Иду, тропу тая, / Кудрявый и веселый, / Такой разбойный я»). Разбой – неуемное богоборчество («Но даже с тайной Бога / Веду я тайно спор»). К кольцовским «Песням лихача-кудрявича» это не близко, да и лихая языческая зарисовка «Сшибаю камнем месяц / И на немую дрожь / Бросаю, в небо свесясь, / Из голенища нож» уводит в сторону от богопослушного настроения кольцовских дум. В есенинском ассоциативном ряду – разбойничья скрытная и дерзкая повадка, скрежет ножа и дрожь пространства, сшибленный камнем месяц, бешеное вращение наизнанку вывернутых координат неба и земли… Конструкцию главной идеи, так сказать, логику стихотворения, поэт вывел к тому, что все должно перемениться и облагообразиться: из просторов России «незримым роем» за Есениным «идет кольцо других» песнопевцев, «И далеко по селам / Звенит их бойкий стих». Им предстоит «вязать из трав книги», «нести звездный шум» в пространство, где исчезла темнота: «Уж смыла, стерла деготь / Воспрянувшая Русь. // Уж повела крылами / Ее немая крепь! / С иными именами / Встает иная степь».
Однако о целомудренной верности кольцовскому завету тут говорить не приходится, скорее – о монтаже очень пестрого разнородного материала: одические архаизмы («Сокройся…»), присловья колдовского заговора («сгинь ты») и шаманское мельтешение фигур («Слова трясем с двух пол»), митинговые выкрики «Довольно!», эпатаж («племя / Смердящих снов и дум»; «славить взлетом гнусь…»), фиглярские переворотцы слов («гнить и ноять» = ныть и гноять?). Никого не хотим обидеть. У больших поэтов тоже случаются неудачи, когда сам по себе «социальный заказ» утопичен и в нравственном смысле сомнителен. Мы лишь взяли пример мысли, не вписавшейся в смиренную цепь по-кольцовски родственных звеньев.
Для уяснения этой цепи, этой традиции в ее прямом, а не искаженном виде полезно очертить границы понятий, в которых сам Алексей Васильевич Кольцов строил и излагал свои мысли о мироздании. Обратимся снова к «Последней борьбе» (1838), чтобы сопоставить эту думу с другими, более ранними и более поздними. А также, поскольку дума – жанр медитативный, обращенный вовнутрь собственного сознания философа, сверим высказанное в думах с тем, что высказал Кольцов в жанре послания, а именно – в стихотворении 1839 года, обращенном к В. Г. Белинскому и по содержанию очень близком к «Последней борьбе».
Мы полностью убеждены, что слово последняя в названии думы 1838 года означает рубеж, достигнув которого, Кольцов уже не оставлял найденной точки. Неколебимо стоял на ней при всех дальнейших испытаниях судьбы и искусах мысли. То есть не шел за Белинским как во всем послушный ученик [7], а подсказывал нечто важное для них обоих, предлагал другу тоже встать на эту, дорогую самому Кольцову, позицию. Как и любую гипотезу, наше предположение об этом требуется проверить, подкрепить доказательствами. Поэтому обратим внимание на биографический эпизод 1838–1839 годов, непосредственно связанный со школой философских исканий, в которую вовлекал Кольцова Белинский. Нам надо будет ответить: почему поэт послал Виссариону Григорьевичу думу «Последняя борьба» не тогда, когда она была написана, а только в сентябре 1839-го? Не желал ли Алексей Васильевич специально оттянуть с посылкой «Последней борьбы» – по крайней мере, до осени 1839 года, пока у него не созрело решительное намерение полностью объясниться с Белинским, поверить окончательный итог своих раздумий?
Итак, теория «примирения с действительностью» вовлекла Кольцова в круг смутных надежд на некую умозрительную систему – философское учение, говоря о котором, московский его приятель буквально фонтанировал новыми для них обоих идеями в период встреч 1838 года. Когда длительная отлучка из дома закончилась, Кольцов вернулся в Воронеж и там имел возможность обдумать все услышанное от Белинского, прочувствовать и пережить в себе его философский настрой. Он убедился, что его собственная душа стала меньше подвержена унынию. Возвышенное состояние, пробужденное горячими искренними московскими разговорами, ее не оставляет. В июльском письме 1838 года читаем: «Последние два месяца (время наиболее тесного их общения в Москве. – Е. Т.) стоили мне пяти лет воронежской жизни» (с. 207).
Теоретическая часть суждений давалась туго («Бог знает как худо работает моя голова»; «Жалею об одном, что нельзя было жить еще месяц с вами: хоть бы месяц один еще, а то есть еще кое-какие вопросы темные. Я понимаю субъект и объект хорошо, но не понимаю еще, как в философии, поэзии, истории они соединяются до абсолюта. Не понимаю еще вполне этого бесконечного играния жизни, этой великой природы во всех ее проявлениях»), она так и осталась неосвоенной (см. письмо от 28 октября 1838 года). Но вся середина лета 1838 года прошла как бы вдвойне осененная яркими лучами. Не только достичь понимания вполне, но и двигаться к свету понимания, еще не имея в душе последней решительно поставленной точки, – уже было благом, давало освобождение от уныния и тоски: «Да, я теперь гляжу на себя – и не узнаю. Где эта бессменная моя печаль, убийственная тоска, эта гадкая буря души, раздор самого себя с собою, с людьми и с делами? Нету ничего, все прошло, все исчезло – и я на все гляжу прямо и все сношу и сношу тяжелое без тягости. И всем этим вам обязан…» Кольцов не терял надежды окончательно разрешить для себя самого нечто принципиально важное, определиться с тем, как же самому теперь жить, коль уму открылись громадные, сложнейшие проблемы: «И меня ничего на свете так не успокаивает в жизни, как вполне понимание этих истин».
Найдя в себе гораздо бóльшую, нежели прежде, твердость, способность не отступать перед «кучей неприятностей», не впадать в уныние из-за плохо идущих «дел коммерции», он бодро говорил Белинскому, как, впрочем, и самому себе: «Материализм дрянной, гадкий и вместе с тем – необходимый… Плавай, голубчик, на всякой воде, где велят дела житейские; ныряй и в тине, когда надобно нырять; гнись в дугу и стой прямо в одно время!»
В конце июля Кольцов отправил ему написанную в 1836 году (и тогда же, 15 июня 1836 года, посланную непосредственному адресату стихотворения М. А. Бакунину) думу «Человек», в начале сентября – «Стеньку Разина». Большинство стихотворений 1838 года отсылалось именно в «Московский наблюдатель»: поэт честно выполнял обещание поддерживать журнал, редактируемый Белинским. Искренне благодарил за беседы, из которых, говорит сам Кольцов, «я узнал много для души моей святого, чего я целый век сам бы не разрешил и не сделал». Однако задушевную свою думу «Последняя борьба» он передал Виссариону Григорьевичу лишь в конце сентября 1839 года, гораздо позже момента, когда эта дума создана.
В чем причина задержки? Не в самой ли этой думе, где сердце говорит мудрее разума?
Осень 1839 года была очень плодотворна и щедра на зрелые вещи – «Что ты спишь, мужичок», «Тоска по воле», «Без ума, без разума», «Хуторок», «Лес (В. А. Жуковскому)» и др. Именно тогда, отправив в Москву к еще не оставившему «Московский наблюдатель» другу «Последнюю борьбу», Алексей Васильевич написал ей вдогонку «Послание (В. Г. Белинскому)» – стихотворение, в котором содержится призыв: «Будь человек, терпи! / Тебе даны все силы, / Какими жизнь живет / И мир вселенной движет». Послание датировано шестнадцатым ноября 1839 года. В нем Кольцов повторно запечатлел, теперь уже в межсубъектном модусе (форме речи, обращенной к ты) высказанный [8], свой героический выбор – решение, которым вдохновлена дума «Последняя борьба» (1838), написанная, как мы помним, от имени я.
Такой итог охватил (отцентровал) настрой и главную краску личного обаяния Белинского – тягу к беспокойному морю мысли, к героике умственных борений, но ничего не суживал. На необходимость «сузить море», скорее, намекает афоризм, завершающий письмо к Белинскому от 12 октября 1839 года: «Уже море – ближе берег». Послание к Белинскому и дума «Лес», посвященная Жуковскому («О чем шумит сосновый лес?») крайне интересны в плане психологизма. Они убедительно показывают, что Кольцов, как и Пушкин, был настоящим Протеем: умел думать не от себя, а от другого: не гадательно, не приблизительно, а непосредственно-точно передавать качество душевного состояния и мыслительный процесс того, чья неповторимая и богатая своим содержанием душа поставлена в центр стихотворения.
О чем шумит сосновый лес?
Какие в нем сокрыты думы?
Ужель в его холодном царстве
Затаена живая мысль?..
Коня скорей! Как сокол быстрый,
На нем весь лес изъезжу я.
Везде глубокий сон, шум ветра,
И дикая краса угрюмо спит...
. . . . . . . . . . . .
Какая ж тайна в диком лесе
Так безотчетно нас влечет,
В забвенье погружает душу
И мысли новые рождает в ней?..
Ужели в нас дух вечной жизни
Так бессознательно живет,
Что может лишь в пределах смерти
Свое величье сознавать?..
Отнюдь не многим из других отзывавшихся Жуковскому авторов удавалось перенять столь много от создателя «Невыразимого». Напитать строки такой же чуткостью к завороженной тишине; перенести в, казалось бы, риторические, вопросы дыхание потусторонней тайны – веяние холодного царства, которое смущает человека мыслью о бренности и смерти. Кольцов и Белинскому не приписал чего-либо несвойственного его натуре: тот же благородный порыв и накал чувств. Поэт ни в коем случае не поставил себя выше адресата: слова императивного наклонения, окрашивающие текст в учительные тона, – психологическая характеристика не столько автора послания, сколько самого Белинского. Но при этом как бы обдумал и написал за Белинского правильный ответ – достойную реплику на отосланную в сентябре «Последнюю борьбу». Собственный кольцовский итог обсуждения философских проблем («Последняя борьба, написанная от первого лица) был перелит в форму «ты» (речь, сказанная от второго лица). «Когда с презреньем люди / Зовут тебя на брань, / Ступай во имя Бога, / Воюй за правду, честь, / Умри на поле брани; / Но не беги с него назад». Как взмахи руки, которую то прижимает к сердцу, то энергично устремляет навстречу другу искренне говорящий человек, выплески разделенного чувства соединили ты и я в одно целое:
Не пяться, друг! стой прямо!
Главы пред ними не склоняй!
Но смело в бой неравный –
На битву Божию ступай!
. . . . . . . . . . . .
Громада гор земля –
Земля песчинка лишь одна;
И океан безбрежных вод –
Что капля утренней росы.
У духа жизни веса нет
У воли духа нет границ,
Везде одна святая сила,
И часть ее есть сила та ж.
Одним лучом огонь небес
Осветит тьму, согреет лед,
Но тьма и холод в небе
Другова солнца не зажжет.
Зачем же долго медлить?
Другую мочь откуда ждать?
И где война – там дело
Великой жизни бытия!
В ее борьбе – паденье смерти
И новой мысли торжество!
И никакого различия сути не оказалось – его и не было в том, что энергично, как всесильное заклинание от слабости духа, звучит в послании от друга к другу, в «Последней борьбе» и в других текстах, запечатлевших искреннее исповедание христианской души, которым дали жанровое название «думы», – философским произведениям Кольцова на тему мироздания. Чтобы ясно увидеть это, сопоставьте с только что приведенными словами ключевой фрагмент думы «Последняя борьба».
Что погибель! что спасенье!
Будь что будет – все равно!
На святое провиденье
Положился я давно!
В этой вере нет сомненья,
Ею жизнь моя полна!
Бесконечно в ней стремленье!..
В ней покой и тишина...
Не грози ж ты мне бедою,
Не зови, судьба, на бой:
Готов биться я с тобою,
Но не сладишь ты со мной!
У меня в душе есть сила,
У меня есть в сердце кровь,
Под крестом – моя могила;
На кресте – моя любовь!
Эти прекрасные строки снискали всенародную любовь, были положены на музыку, переиздавались несчитанное число раз. Их непременно включали в состав песенников, переписывали от руки, вышивали на рушниках. У Кольцова и в более ранних произведениях немало поэтических формулировок, в которых запечатлено народное философствование о мире: «Все, что есть, – все это Божье; / И премудрость наша – Божья» («Человеческая мудрость», 1837); «Тяжелы мне думы, / Сладостна молитва!» («Великая тайна», 1833). Отдать достоинствам истинно-народной философской мудрости высший пьедестал оказалось вполне естественным, когда Кольцов осознал, что иные пути не примиряют ищущих – только уводят ум в метафизику, отдаляют от реальности.
Мы заново подняли вопрос о философской позиции поэта, взяв известный момент его биографии и созданные в 1838–1839 году тексты, так как считаем нужным пересмотреть принятый в кольцововедении постулат о том, что идя по стопам Белинского, во всем послушный ему Кольцов мучился раскаянием в собственном невежестве; лишь ранняя смерть помешала ему стать таким же передовым мыслителем, каким стал Белинский. Растиражированная многими статьями и книгами, эта версия – пример односторонней трактовки, которая (еще раз вспомним слова Пушкина «Односторонность есть пагуба мысли») полной картины не дает и от этого способна ввести в заблуждение. Постулат продолжает линию, заданную в статье 1846 года «О жизни и сочинениях Кольцова», где Виссарион Григорьевич утверждал: «Мистическое направление Кольцова, обнаруженное им в думах, не могло бы у него долго продолжиться, если б он остался жив» [9]. От внесения справедливых правок в подобную оценку жанра дум достоинства статьи ничуть не пострадают. Она так и останется в глазах читателей свидетельством неравнодушного взгляда, важным источником биографических сведений: никто не сообщил нам столько истинно верного и ценного для раскрытия личности поэта, не сохранил для потомков столько писем Кольцова, как В. Г. Белинский. Скажем более – ни от кого, кроме Виссариона Григорьевича, Кольцов не ждал столь трепетно ответа на свою думу «Последняя борьба». Судьба послала ему, поэту, критика, который жаждал понимать и объяснять текущую литературу, верил (по крайней мере, на пике их бесед об «абсолюте») в главенство духовности.
Смерть Пушкина обезоружила многих неофитов романтической теории, согласно которой все истинное в искусстве есть результат неколебимого олимпийского спокойствия. Сознанием Белинского болезненно овладевал комплекс проблем, выталкивающий за рамки «олимпийской» теории критика, обязанного регулярно поставлять в журнал статьи и обзоры текущего литературного процесса. Немецкая теория романтизма солидна, основательна, верна… Пусть это трижды так, однако как же в безмятежном духе рассуждать о своем полном тяжких испытаний времени, когда все справедливое в отношении муз оборачивается горькой несправедливостью в отношении к поэтам?
Душевный ад тяжел без веры в избавленье. Глубокие внутренние колебания устремили, буквально бросили навстречу друг другу двух людей, переживавших беду так остро, так не хотевших терять надежду на неколебимые опоры… Каждый из двоих искал за себя и за другого. Вот, полагаем, то главное, что требовало взаимной открытости, исповедальности. Алексей Кольцов опередил друга: в довольно краткий срок окончательно и навсегда пришел к вероисповедному выбору, облек мысли об этом в стихотворную форму… Он отправил думу «Последняя борьба», а затем «Послание» тому, кто, ему казалось, ждет его решительного ответа… Однако миг сплоченности, когда каждый из двоих ощущал другого совершенно рядом, уже был позади. Путь рука об руку долго не продлился: один из ищущих достиг перекрестка и не сошел с него; другой побрел скитаться дальше.
Что становится очевидным, если смотреть на эпизод 1838–1839 годов глазами Кольцова, а не Белинского? Автор «Последней борьбы» писал «Послание», желая стать больше чем друзьями – духовными братьями. Но адресат не был готов отказаться от поисков «абсолюта» или какой-либо другой руководящей идеи.
Полной открытостью и пониманием Белинский Кольцову не ответил ни тогда, ни позже. Составляя некролог, итожа оценку жизни и сочинений друга, критик похвально высказался о простоте и смелости его ума, но тут же одной «туманной» фразой закрыл тему, о которой самому ему говорить не хотелось. Он написал: «Мистическое направление Кольцова, обнаруженное им в думах, не могло бы у него долго продолжиться, если б он остался жив. Этот простой, ясный и смелый ум не мог бы долго плавать в туманах неопределенных представлений».
Незачем во всем полагаться на эту характеристику, поскольку Белинский был склонен сам трактовать смену философских увлечений как движущуюся эстетику. К 1846 году он уже давно отошел от философской теории, которую проповедовал в «Московском наблюдателе», на этапе своего «примирения с действительностью», его все более привлекала разработка позитивистских идей. Кольцов же не изменил ни православной народной вере, ни подлинному эпическому чутью. Вникая в суть вещей, этот ум продолжал подыскивать слова для объяснения непростых материй. Ни робким, ни неумело-ученическим подобный склад мышления не назовешь. В ответ на замечания Белинского по поводу думы «Лес», которая критику не понравилась (он предложил ее переделать), Алексей Васильевич ничего переделывать не стал. Он прямо признался, что произведение ему самому нравится, и объяснил почему: «Черт знает какая ошибка в “Лесе”! Он мне шибко нравился, – мне думалось, читая его, что какой-то злой демон выходит из него и шепчет грустные мысли, и в какую образность ни входит, всюду разрушает жизнь и, наконец, в общем уничтожении выводит смерть; а сила души, в самой смерти сознавая свое величие, уничтожает его и, торжествуя, расширяет жизнь» (с. 251).
Уже и летом 1838 года наряду с желанием заняться немецким языком, чтобы освоить немецкую премудрость, Кольцов высказывал определенные возражения против метафизики «абсолюта». Поистине сократовский намек другу содержит история о том, как поддержал умонастроения Белинского отец поэта Василий Петрович Кольцов. «Мы ездили с ним вместе на степи; дорогою я взялся ему все доказывать, рассказывать философски, рассказал как умел, и он со мною совершенно во всем согласился: даже согласился, что он сам большой фанатик, то есть старинный почитатель одних призрачных правил без чувства души (так ли я понимаю слово фанатик?). А это все ручается, что мы с ним скоро будем ладить хорошо. Дай-то бог» (с. 228).
Жанр думы не был в кольцовском творчестве ни второстепенным, ни слабее разработанным, чем жанр песен. Думы – опора большого эпического полотна, развернутого Кольцовым. И это именно так, поскольку в философских и вероисповедных произведениях проступает сам стержень ментальности. Ключом к раскрытию специфики дум как наджанрового феномена может быть сравнение дум Кольцова с философской поэзией Ломоносова, шире – анализ народно-религиозной составляющей творчества русских писателей XVIII века. Попутно скажем: нельзя навешивать ярлык «наивные» на тексты, в которых заметно эпическое языковое чутье. Оно вообще воспитывается на лапидарном материале.
Единство устной / письменной речевой традиции золотого века отечественной культуры заметно не только в материале слов, но и в том, как легко и просто расступались перед истинными талантами-самородками все условности и «перегородки» социального устройства. Алексей Кольцов, Тарас Шевченко были радушно приняты в среде литераторов-аристократов. И когда приходилось разрешать запутанные дела своего отца, Кольцов в первую очередь прибегал к помощи П. А. Вяземского, В. А. Жуковского, В. Ф. Одоевского. И в роли просителя ему не приходилось заискивать перед этими «князьями» и «министрами»: у развитых душ не бывает зазнайства и лакейства. Немаловажная черта – живое воплощение душевной красоты и истинно-человеческого достоинства в людях, у которых слово не расходится с делом.
Что выделяет кольцовскую поэзию земледельческого труда на фоне деревенской лирики «сочувствующих поэтов»? Они пишут в усиленно-сентиментальных жалостных тонах: «Бедному пахарю моченьки нет» (Н. А. Некрасов. «Несжатая полоса»). А у Кольцова несжатое поле – пространство радости, неразлучной с созидательным делом. Поле не меряно, колосья не считаны… Где благодать хлебов, колосок за колоском перебираемых ветром, – там и серп, что пожнет, и рука, что снопами увяжет волны, в живом колышущемся строе которых царит всеобщий гармонический закон.
Кольцовское отношение ко всему родному так обрадовало Пушкина! Он не мог не любоваться стихотворением «Урожай» (1835) из тетрадки стихов, привезенной из Воронежа Николаем Станкевичем. Узнав, что воронежский самородок ненадолго приехал в столицу, Александр Сергеевич настойчиво звал его к себе, чтобы познакомиться не на бумаге. По известному рассказу А. М. Юдина мы знаем, как состоялась эта встреча. «Едва Кольцов сказал ему свое имя, как Пушкин схватил его за руку и сказал: “Здравствуй, любезный друг! Я давно желал тебя видеть”. Кольцов пробыл у него довольно долго и потом был у него еще несколько раз. Он никому не говорил, о чем он беседовал с Пушкиным, и когда рассказывал о своем свидании с ним, то погружался в какое-то размышление» [9].
Во II томе «Современника» читаем светлый кольцовский гимн труду, любви к родному полю и ко всей красоте земной.
Посмотрю пойду,
Полюбуюся,
Что послал Господь
За труды людям:
Выше пояса
Рожь зернистая
Дремит колосом
Почти до земи,
Словно Божий гость
На все стороны
Дню веселому
Улыбается.
Ветерок по ней
Плывет-лоснится,
Золотой волной
Разбегается…
Он напечатан в соседстве с тремя панорамными стихотворными произведениями. Два из них изображают в лицах историю: древнюю, географически отдаленную («Битва при Тивериаде» – сцены из драматического полотна, посвященного битве крестоносцев при Хоттине) и более к нам близкую («Иоанн III и Аристотель»). В этой драме царь Иван III ведет философскую беседу с придворным архитектором Аристотелем Фьораванти о возможности подчинить гармонии не только искусство, но и человеческую жизнь. Русский монарх на перепутье: ради укрепления государства требуется отдать свою дочь Елену замуж за иноземного князя. Но невесте жених не люб, и царь колеблется, как поступить: прислушаться к голосу отцовского сердца или холодно свершить государственный долг?
Третье произведение – волшебная «Сказка об Иване Царевиче, Жар-птице и о сером волке» Н. М. Языкова, тоже написано по ролям и для сцены. Окруженная масштабными вещами небольшая стихотворная пьеса не потерялась, а достойно выдержала предназначенную ей роль. В целостном ансамбле ей выпало быть средоточием жизни современной, не заслоненной ни расстояниями, ни далью лет. Очарованием своим «Урожай» ничем не уступает сказке.
Вспомним картину забот простых и величественных, которой Кольцов отдал весь свой лирический и эпический талант. Рожь зернистая «дремит колосом», «на все стороны улыбается», словно Божий гость, «что послал Господь / За труды людям». Вытянувшаяся выше пояса, она клонится, льнет налитыми колосьями к матушке-земле, как льнут друг к другу все благие природные процессы. Им дано текуче-легко обмениваться своими качествами: у Кольцова «Плывет-лоснится, / Золотой волной» не нива, а разбегающийся по ней ветерок. Смещения не размывают смысла. Напротив, позволяют целомудренно-благородно сказать о радости тружеников: честь и гордость за знатный урожай поданы как чувство не хлеборобов, а скирд, наметанных на гумна: «Как князья, скирды / Широко сидят, / Подняв головы».
И, конечно, солнцеворот теснейшим образом сплочен с годовым кругом земледельческих забот. Весна напоит земные просторы дождями, пробудит «громом-бурею», «огнем-молнией», осенит «дугой-радугой» – люди поднимут зерновой запас из закромов, на «убранных мешками» возах доставят его на поля. «И пошли гулять / Друг за дружкою, / Горстью полною хлеб раскидывать; И давай пахать / Землю плугами / Да кривой сохой / Перепахивать, / Бороны зубьем / Порасчесывать». Летние жары выпестуют ниву. А потом солнышко, видя, «что жатва кончена», уйдет отдохнуть, природа остынет. Но огонь жизни не пойдет на убыль. Недреманный сон хлебов перетечет в закрома-амбары, и тепло, единое и в снопах и в малом зернышке, скоротает зиму на людском подворье, под крышей поселян. В долгих сумерках сиять ему свечой в горницах пред иконою Божьей Матери. «Свечой жаркою» – пишет Кольцов, опять же наполняя затепленный над тонким фитилем язычок света энергией молитвенных чувств.
Глеб Успенский, известнейшее сочинение которого называется «Власть земли» (1882), ставил это стихотворение Кольцова выше лермонтовского «Когда волнуется желтеющая нива». Напомним высказанные им прекрасные и верные мысли об «Урожае»: «Тут нет пустого места, нет прорехи в миросозерцании»; «природа и миросозерцание человека, стоящего с ней лицом к лицу, до поразительной прелести неразрывно слиты в одно поэтическое целое» [11]. В этих точно улавливающих суть характеристиках выделены, собственно говоря, признаки не лирики, а эпоса. Только эпос берет мир как неразъемное целое. Таким образом, Кольцов и как автор русских песен не может выглядеть чистым лириком. Его лирика – мощный ретранслятор эпического компонента поэзии золотого века. Эпическая поэзия не старится, не утрачивает богатырскую мощь и, в отличие от искусственных зеркал-софитов, не «бликует». Равномерный свет ее разлит, как в полуденной летней степи, и освещает просторы до горизонта. Ритм ее скрепляет все, что способно стихийно развиваться.
Развитие – процесс вовсе не линейный (прямая линия – «путь в никуда»), это витки спирали, где гармонично дополняют друг друга межпоколенные (трижды по 10 лет) и вековые (трижды по 30) волны культурных взаимодействий. Если поддержим такой алгоритм, новые поколения не разнародятся в толпу, не побредут бесцельно. Детям, конечно, полезно слышать самого Кольцова, а не «рой», загудевший вослед имажинистам. Юность сама почувствует, что с кольцовскими песнями грусть светлее, веселье радостней. И устоявшийся зрелый ум поймет, по достоинству оценит в его творчестве душу сильного и цельного человека, не привыкшего задаваться в час везенья или пасовать в трудный момент. Вот вам естественное слияние волн, тот самый перекресток, на котором и до Пушкина рукой подать.
Решительно повзрослевший в Михайловском уединении Пушкин с 1826–1827 годов работал над все более широким охватом исконно-народной поэтической ритмики и мелодики (цикл песен о Стеньке Разине, «Еще дуют холодные ветры» и т. п.). Практически в те же годы Алеша Кольцов осмелился записывать приходившие ему в голову напевные строки. На безбрежно широком своем поле русская жизнь выпестовала двух самостоятельно развивавшихся поэтов-гениев. Повидались они лишь на краешке земного пути: до дуэли с Пушкина с Дантесом оставались считанные дни... Если что-либо способно абсолютно поменять взгляд на случайное и исключительное, то это именно такие совпадения.
Откровение дается единожды. Тем, кто его не понял, и другие разы не помогут.
В персональном творческом становлении Пушкин шел от книжной поэзии к фольклорной, Кольцов, наоборот, от устной речи к письменной. Оба пути сольются в единый гармонический результат и впредь, если не отгораживать юные умы от книг и устных преданий, из которых их деды и прадеды впитывали чистоту, искреннее желание поддержать, утешить ближнего. Совестливая ответственность за культуру поможет потомкам не забыть свои корни, по-настоящему ценить все народное и родное.
Почему мы сегодня почти перестали верить в это? Зачем нас заставляют свыкнуться с идеей о том, что читать русскую литературу и жить русской жизнью – не одно и то же?
Литература и примечания
1. Книга А. А. Потебни «Мысль и язык» писалась с середины 1860-х по середину 1890-х годов, вышла в 1895-м. Ее А. М. Горький в 1911 году предлагал переиздать как единственную помогающую стать писателем. Такой ответ дал пролетарский писатель на письма более 400 простых людей-самоучек, которые присылали ему повести, стихи, рассказы о своей жизни и спрашивали: как стать писателем.
2. «Закатилось солнце русской поэзии», – писал в некрологе В. Ф. Одоевский. «А. С. Пушкин помер; у нас его более нету!.. Едва взошло русское солнце, едва осветило широкую русскую землю небес вдохновенным блеском, огня животворной силой; едва огласилась могучая Русь стройной гармонией райских звуков; едва раздалися волшебные песни родимого барда... Прострелено солнце», – вторил ему Кольцов в письме от 13 марта 1837 года (с. 187).
3. Произведение, посланное Белинскому осенью 1839 года, напечатано в журнале «Отечественные записки» в 1841 году (т. XVIII, c. 160).
4. Кольцов А. В. Сочинения. М., 1984. С. 227. Далее тексты стихотворений и писем цитируются по этому изданию.
5. Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: в 20 т. Т. 5. М., 1966. С. 8–10.
6. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М., 1977–1979. Т. 10. С. 565.
7. Из ученых советского времени проф. Н. Н. Скатов, кажется, первым решился откорректировать мнение о «наивности» (слова П. Соболева) и «беспомощном, ученическом положении Кольцова» (слова Ф. де Пуле) в философских беседах с Белинским. Однако сделал корректировку не полную.
8. В тексте «Послания» можно насчитать десяток глаголов второго лица (ступай, воюй, бейся, умри и пр.) вкупе с шестикратным повтором местоимений ты, твой.
9. Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. М., 1948. С. 117.
10. Цит. по: Скатов Н. Н. Кольцов. М., 1989. С. 176.
11. Успенский Г. И. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 5. М., 1955. С. 38–39. Напоминая это глубокое высказывание из очерка «Крестьянин и крестьянский труд» (1880), мы бы поспорили с утверждением о том, что изображенная Лермонтовым картина родной природы менее целостна (ландыш рядом с сиреневой сливой – тоже синтез времен цветения и плодоношения земли).