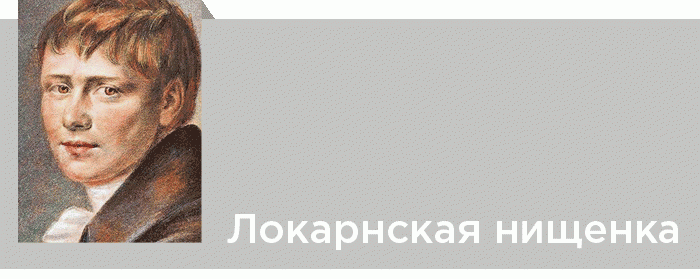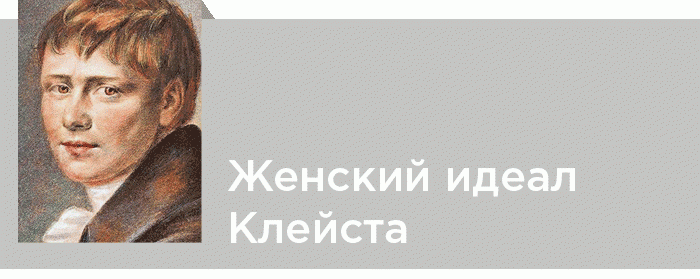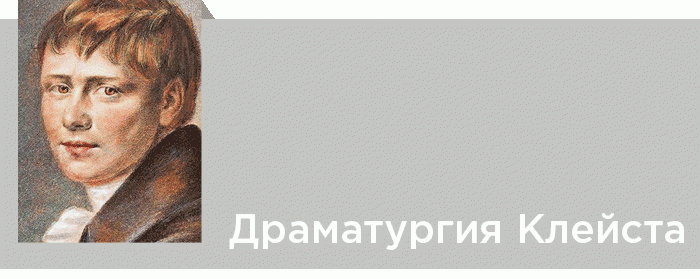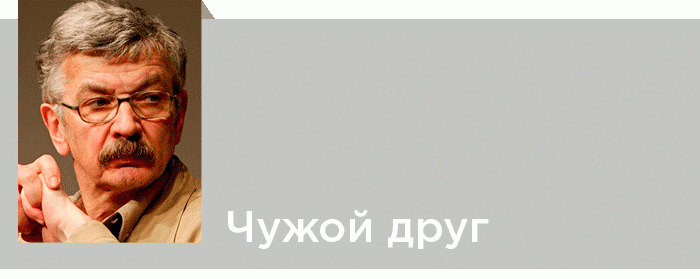Генрих фон Клейст. Святая Цецилия, или власть музыки

Легенда
В последние годы шестнадцатого столетия, когда иконоборчество свирепствовало в Нидерландах, три брата, молодые люди, обучавшиеся в Виттенберге, встретились в городе Аахене с четвертым, который был; поставлен проповедником в Антверпене. Они прибыли, чтобы получить наследство, доставшееся им от старого, всем им незнакомого дяди, и остановились в гостинице, так как в этом городе не было никого, к кому они могли бы обратиться. По прошествии нескольких дней, которые они провели в том, что слушали рассказы проповедника об удивительных выступлениях, имевших место в Нидерландах, случилось, что монахини монастыря св. Цецилии, который в те времена находился у ворот этого города, готовились торжественно справлять праздник тела христова; ввиду этого четыре брата, воспламененные фанатизмом, молодостью и примером нидерландцев, решили доставить и городу Аахену зрелище иконоборческого выступления. Проповедник, уже не раз руководивший подобными предприятиями, собрал накануне вечером некоторое число молодых преданных новому учению купеческих сыновей и студентов, которые провели ночь в гостинице за вином и едою, проклиная папизм; и когда над крышами города занялась заря, они вооружились топорами и всякого рода орудиями разрушения, дабы приступить к своему буйному делу. Они, ликуя, сговорились относительно сигнала, по которому предположено было начать с того, чтобы вышибить оконные стекла, расписанные библейскими сюжетами, и, уверенные в значительном числе сторонников, которых найдут среди народа, они, решившись не оставлять камня на камне, отправились в собор в тот час, когда зазвонили колокола. Игуменья, которая уже на рассвете была извещена доброжелателем об опасности, грозившей монастырю, напрасно посылала несколько раз к императорскому офицеру, командовавшему в городе, прося для охраны монастыря стражу; офицер, который сам был враг папства и, как таковой, по крайней мере тайно, был расположен к новому учению, нашел возможность отказать ей в страже под благовидным предлогом, что ей мерещутся пустые страхи и что ее монастырю не грозит ни тени опасности. Тем временем наступил час, когда торжество должно было начаться, и монахини среди страха и молитв и горестного ожидания предстоящих событий стали готовиться к обедне. Никто их не защищал, кроме старого семидесятилетнего монастырского кастеляна, который с несколькими вооруженными слугами стал у входа в церковь.
В женских монастырях монахини, обученные игре на всякого рода инструментах, как известно, сами исполняют свои музыкальные номера, часто с отчетливостью, разумом и чувством, каких недостает в мужских оркестрах (может быть, по причине женственного характера, присущего этому таинственному искусству). Тут к усугублению беды случилось, что капельмейстер, сестра Антония, которая обычно управляла оркестром, за несколько дней перед тем жестоко захворала нервной горячкой; так что помимо угрозы со стороны четырех братьев-богохульников, которых уже видели закутанных в плащи под сводами храма, монастырь находился в крайнем смущении по поводу исполнения подобающего музыкального произведения. Игуменья, которая в вечер предыдущего дня приказала, чтобы была исполнена одна старинная итальянская месса, творение неизвестного мастера, производившая, благодаря особливой святости и великолепию своей композиции, сильнейшее действие в исполнении капеллы, послала, более чем когда-либо настаивая на своем желании, еще раз к сестре Антонии, чтобы узнать, как та себя чувствует; однако монахиня, которая взялась за это поручение, вернулась с известием, что сестра лежит в совершенно бессознательном состоянии и что нечего и думать о ее дирижировании предполагаемым музыкальным исполнением. Тем временем у собора, в котором мало-по-малу собралось более сотни вооруженных топорами и ломами святотатцев всякого состояния и возраста, уже произошли самые серьезные выступления; некоторых слуг, которые стояли у порталов, задели самым непристойным образом и допустили самые дерзкие и наглые выражения по отношению к монахиням, которые время от времени, при исполнении благочестивых обязанностей, показывались в одиночку в проходах; в такой мере, что монастырский кастелян отправился в ризницу и на коленях заклинал игуменью отменить празднество и удалиться в город под Защиту коменданта. Но игуменья непоколебимо настаивала на том, что празднество, установленное в честь господа бога, должно состояться; она напомнила монастырскому кастеляну его обязанность защищать, не щадя живота своего, мессу и торжественный крестный ход, который должен был быть совершен в соборе, и приказала, так как только что прозвонил колокол, монахиням, которые в страхе и трепете ее окружали, взять любую ораторию любого достоинства и положить начало исполнением ее.
Монахини уже собрались на хорах у органа; партитура одного музыкального произведения, которое уже часто исполнялось, была роздана, скрипки, гобои и басы были испробованы и настроены, как вдруг сестра Антония, бодрая и здоровая, немного бледная в липе, появилась со стороны лестницы; она несла подмышкой партитуру старинной итальянской мессы, на исполнении которой так упорно настаивала игуменья. На изумленный вопрос монахинь, откуда она пришла и как это она так внезапно оправилась, она отвечала: "Нужды нет, подруги, нужды нет!", раздала партитуру, которую она с собою несла, а сама седа, пылая вдохновением, за орган, чтобы взяться за дирижирование этим превосходным музыкальным произведением. Тут снизошло как бы дивное небесное утешение на сердца благочестивых жен; они мгновенно стали со своими инструментами за пульты; самое волнение, в котором они находились, способствовало тому, чтобы пронести их души, как на крыльях, через все небеса гармонии; оратория была выполнена с высочайшим и чудеснейшим музыкальным великолепием; ни одного вздоха не пронеслось во время всего исполнения в пролетах и на скамьях; особенно во время Salve regina {Радуйся, царица. М. П.} и еще более во время Gloria in excelsis {Слава в вышних. М. П.} казалось, словно весь народ в церкви замер, так что к досаде четырех богом отверженных братьев и их сторонников даже пыль с пода не развеялась, и монастырь простоял до конца Тридцатилетней войны, когда в силу одного из параграфов Вестфальского мира он все же был секуляризован.
Шесть лет спустя, когда это происшествие давно забылось, приехала мать этих четырех юношей из Гааги и, с грустью сославшись на то, что об них окончательно нет никаких вестей, возбудила перед Аахенским магистратом судебное расследование о том пути, который они могли избрать, отправившись отсюда. Последнее известие, которое об них имели в Нидерландах, откуда они были родом, было, как она сообщила, письмо, написанное ранее указанного срока, накануне праздника тела христова, проповедником к его другу, школьному учителю в Антверпену, в котором он с большой веселостью, или, вернее, развязностью делает на четырех тесно исписанных страницах предварительное сообщение о некоем предприятии, задуманном против монастыря святой Цецилии, о чем, однако, мать не хотела более подробно распространяться. После различных напрасных стараний обнаружить тех лиц, которых искала опечаленная женщина, вспомнили, наконец, что уже в течение целого ряда лет, приблизительно совпадавших с указанным сроком, четыре молодых человека, родина и происхождение которых было неизвестно, находились в недавно учрежденном заботами императора городском доме умалишенных. Однако то, что они страдали извращением религиозной идеи и что их настроение, как суд, по его словам, смутно слышал, было крайне унылым и меланхоличным, чересчур мало подходило к, увы, слишком хорошо знакомому матери душевному строю ее сыновей, чтобы она обратила большое внимание на Это сообщение, особенно же потому, что почти выяснилось, будто эти люди были католики. Тем не менее, странным образом пораженная различными приметами, по каким их описывали, она в один прекрасный день отправилась в сопровождении судебного пристава в дом умалишенных и попросила заведующих любезно разрешить ей для проверки посещение тех четырех несчастных сумасшедших, которые там содержались. Но кто опишет ужас бедной женщины, когда тотчас же, с первого взгляда, едва переступив порог, она узнала своих сыновей! Они сидели в длинных черных рясах вокруг стола, на котором стояло распятие, и, молча опершись на доску сложенными руками, казалось, молились на него. На вопрос женщины, которая, лишившись сил, опустилась на стул, что собственно они делают, заведующие отвечали ей, что они заняты исключительно прославлением Спасителя, о котором, по их уверению, они лучше, чем другие, постигли, что он воистину сын единого бога. Они добавили, что юноши вот уже шесть лет ведут такой духовный образ жизни, что они мало спят и мало едят, что ни один звук не исходит из их уст, что они лишь однажды в полуночный час подымаются со своих седалищ и что тогда голосами, от которых окна в доме готовы разлететься вдребезги, они затягивают Gloria in excelsis. Заведующие закончили уверением, что молодые люди при этом телесно совершенно здоровы, что им нельзя отказать в известной, хотя и очень серьезной и торжественной, ясности духа; что они, когда их называли умалишенными, с сожалением пожимали плечами и уже многократно высказывали, что если бы славный город Аахен знал то, что знают они, то отложил бы свои дела в сторону и также преклонился бы перед распятием для воспевания Gloria.
Женщина, не будучи в состоянии вынести ужасающего вида этих несчастных, вскоре затем, едва держась на ногах, дала себя отвести домой и утром следующего дня отправилась, чтобы получить сведения о ближайшей причине, вызвавшей это чудовищное происшествие, к господину Фейту Готгельфу, знаменитому торговцу сукном в этом городе; ибо об этом человеке упоминалось в написанном проповедником письме, из которого вытекало, что он принимал горячее участие в предполагавшемся разрушении монастыря св. Цецилии в день праздника тела христова. Фейт Готгельф, торговец сукном, который тем временем женился, народил несколько детей и взял в свои руки значительную торговлю отца, принял чужеземку весьма любезно, и когда он узнал, какое обстоятельство ее к нему привело, то запер дверь и, усадив ее на стул, заговорил следующим образом: "Сударыня! если вы меня, который с вашими сыновьями, тому назад шесть лет, находился в тесной связи, не намерены запутать из-за этого ни в какое следствие, то я готов вам чистосердечно и без утайки сознаться: да, мы имели намерение, о котором упоминается в письме. Но благодаря чему это дело, для исполнения которого все точнейшим образом и, поистине, с безбожным остроумием было рассчитано, потерпело крушение,- для меня непонятно; само. небо, кажется, взяло под свое святое покровительство монастырь благочестивых жен. Ибо знайте, что ваши сыновья уже позволили себе, как введение к более решительным выступлениям, несколько дерзких, нарушающих богослужение шалостей, более трехсот вооруженных топорами и смоляными венками злодеев из стен нашего, тогда введенного в заблуждение, города ожидали лишь сигнала, который должен был подать проповедник, чтобы сравнять собор с землею. Между тем при начале музыки ваши сыновья, к нашему изумлению, внезапным и одновременным движением снимают шляпы; мало-помалу, как бы в глубоком несказанном волнении, они закрывают склоненные лица руками; и проповедник, внезапно обернувшись после потрясающей паузы, призывает нас всех громким, страшным голосом также обнажить головы! Напрасно некоторые товарищи требуют от него шопотом, легкомысленно подталкивая его руками, чтобы он подал сигнал, условленный для иконоборческого погрома; вместо ответа, проповедник опускается со сложенными крестообразно на груди руками на колени и бормочет вместе с братьями, набожно склонив чело в прах, весь ряд еще недавно перед тем осмеянных им молитв; до глубины души смущенная этим зрелищем, стоит толпа жалких фанатиков, лишенная своих вождей, в нерешительности и бездействии до конца оратории, дивно изливавшейся с высоты хор; и так как, по приказанию коменданта, было произведено несколько арестов и некоторые святотатцы, дозволившие себе бесчинства, были схвачены и уведены стражей, то жалкому скопищу ничего не оставалось, как, скрываясь в густой толпе расходившегося народа, поспешно удалиться из божьего дома. Вечером, после того как я напрасно несколько раз справлялся в гостинице о ваших сыновьях, которые не возвращались, я снова в ужасном беспокойстве с несколькими друзьями иду за ворота к монастырю, дабы разузнать о них у привратников, которые пришли на помощь императорской страже. Но как описать вам мой ужас, благородная женщина, когда я увидел этих четырех мужей, как и раньше со сложенными руками, прильнувших к земле грудью и лбом, словно окаменевших, полных горячего благочестия и распростертых перед алтарем! Напрасно подошедший в это время монастырский кастелян, дергая их за плащи и тряся их за руки, предлагает им покинуть собор, в котором наступил уже полный мрак и не оставалось ни одного человека; наполовину приподнявшись, как бы погруженные в грезы, они покоряются ему только тогда, когда он велит своим слугам взять их под руки и вывести за портал; тут они, наконец, последовали за нами в город, хотя и со вздохами и частым душу раздирающим оглядыванием на собор, великолепно сверкавший позади нас в блеске солнца. Мы с друзьями спрашиваем их на обратном пути несколько раз нежно и любовно, что за ужас с ними приключился, который до такой степени перевернул их внутренний душевный строй; они, ласково глядя на нас, пожимают нам руки, смотрят задумчиво в землю и, ах! утирают время от времени слезы из глаз с выражением, которое еще до сих пор раздирает мне сердце. Затем, прибыв на свою квартиру, они связывают искусно и изящно крест из березовых сучьев и ставят его, втиснув в маленький восковой холм, на большой стол посреди комнаты между двумя свечами, с которыми появляется служанка, и в то время как друзья, толпа которых час от часу возрастает, стоят рядом, ломая руки, и, разбившись на группы, безмолвные от горя, глядят на их тихое жуткое колдовское действо, они, словно их чувства замкнуты для всякого другого явления, опускаются вокруг стола и тихо, со сложенными руками, приступают к молитвенному поклонению. Ни в пище они не нуждаются, которую приносит служанка для угощения их товарищей, согласно их распоряжению, отданному еще утром, ни позднее, с наступлением ночи,- в ложе, которое, видя их усталость, она постелила для них в соседней комнате; друзья, дабы не возбуждать негодования хозяина, которого это представление неприятно изумляет, должны усесться за стол, пышно рядом накрытый, и есть приготовленные для многочисленного общества кушанья, приправленные солью их горьких слез. Тут внезапно часы бьют полночь; ваши четыре сына, прислушавшись на одно мгновенье к звуку колокола, вдруг подымаются одновременным движением со своих мест; и в то время как мы, положив салфетки, следим за ними в беспокойном ожидании, что последует за этими странными и необычными действиями, они ужасными, отвратительными голосами затягивают Gloria in excelsis. Так, пожалуй, звучат голоса леопардов и волков, когда они в морозное зимнее время воют в небо; своды дома, уверяю вас, содрогнулись, а окна, под напором видимого дыхания их легких, угрожали со звоном разлететься вдребезги, словно на их поверхность кидали полные пригоршни тяжелого песку. Обезумев при этом жутком выступлении, мы бросились с поднявшимися дыбом волосами в разные стороны; мы рассееваемся, оставив плащи и шляпы по окрестным улицам, которые в короткое время, вместо нас, заполнились более чем сотней вспугнутых со сна людей; народ теснится, выламывая двери дома, по ступеням к зале, дабы отыскать источник Этого ужасающего и возмутительного рева, который словно из уст навеки осужденных грешников из глубочайшей пучины пламенеющего ада, жалобно прося пощады, возносился к ушам господа. Наконец, когда бьет час, то, не вняв ни гневу хозяина, ни взволнованным возгласам обступившего народа, они замыкают свои уста, утирают платком со лба пот, крупными каплями стекающий у них на подбородок и грудь, расстилают плащи и ложатся на пол, чтобы отдохнуть хоть час от столь мучительной работы. Хозяин, который им не препятствует, осеняет их, как только он увидал, что они задремали, знамением креста и, довольный, что хоть на время избавился от беды, уверяя, что утро принесет целительную перемену, убеждает кучку людей, которые присутствуют при этом и таинственно между собою перешептываются, оставить комнату. Но, увы! уже с первым пением петуха несчастные встают для того, чтобы снова приняться перед стоящим на столе распятием за тот же пустой, жутко-колдовской монастырский образ жизни, который лишь истощение заставило их прервать на одно мгновенье. Они не принимают от хозяина, сердце которого растаяло от их жалостного вида, ни увещаний, ни помощи, они просят его любовно отстранять друзей, которые прежде имели обыкновение собираться у них каждый день по утрам; они ничего другого от него не требуют, кроме воды и хлеба и подстилки, коли то возможно, на ночь; так что этот человек, который раньше извлекал из их веселья много денег, увидел себя вынужденным обо всем этом происшествии доложить суду, прося убрать из его дома этих четырех людей, в которых несомненно вселился злой дух. После этого, по приказанию магистрата, они были подвергнуты врачебному освидетельствованию, и так как их признали сумасшедшими, как вы знаете, их водворили в дом умалишенных, который, по милости последнего покойного императора, на благо такого рода несчастных был основан в стенах нашего города". Это и многое другое рассказал Фейт Готгельф, суконный торговец, что мы здесь опускаем, ибо полагаю, что для проникновения во внутреннюю связь событий мы сказали достаточно; в заключение он снова убеждал женщину отнюдь не впутывать его, если дело дойдет до дополнительного судебного следствия по этому происшествию.
Три дня спустя, женщина, потрясенная до глубины души этим сообщением, под руку с подругой, вышла за город к монастырю с меланхолическим намерением обозреть на прогулке, так как погода была как раз хорошая, место ужасных событий, на котором бог как бы невидимыми молниями поразил ее сыновей; женщины нашли собор загороженным досками, так как именно в это время производилась перестройка, и, с трудом поднявшись наверх, ничего не могли увидеть внутри сквозь отверстия в досках, кроме великолепно сверкающего круглого окна в глубине церкви. Многие сотни рабочих, распевавших веселые песни, были заняты на стройных, сложно перекрещивающихся лесах тем, что повышали еще на добрую треть башни и перекрывали крыши и зубцы их, которые до сих пор были покрыты только шифером, прочной, яркой, блистающей в солнечных лучах медью. В это время стояла грозовая туча, густо черная, с позолоченными краями, как фон, позади здания; она уже извергла свои громы над окрестностями Аахена и, после того как метнула несколько бессильных молнии в направлении собора, с недовольным ворчанием опустилась к востоку, растворившись в туманы. Пока женщины с лестницы обширного монастырского жилого здания глядели вниз на это двойное зрелище, погруженные в разнообразные думы, одна из послушниц, проходившая мимо, случайно узнала, кто такая стоящая под порталом женщина; таким образом игуменья, слыхавшая о письме, касающемся дня праздника тела христова, которое та при себе имела, немедленно послала к ней послушницу, поручив ей пригласить нидерландскую женщину подняться к ней наверх. Нидерландка, хотя и на мгновение смущенная этим, тем не менее собралась почтительно повиноваться переданному ей приказанию"; и в то время как подруга, по приглашению монахини, удалилась в боковую комнату, находившуюся рядом" со входом, для иностранки, которая должна была подняться по лестнице, открыли двухстворчатые двери изящно построенного бельведера. Там она нашла игуменью, благородную женщину, спокойного царственного вида, сидевшую в кресле, опершись ногою на скамейку, покоившуюся на когтях дракона; рядом с нею на пульте лежала партитура музыкального произведения. Игуменья, приказав поставить гостье стул, открыла ей, что она уже слыхала от бургомистра об ее прибытии в город; и после того как она самым сердобольным образом осведомилась о состоянии ее несчастных сыновей, ободряя ее и уговаривая по возможности примириться с постигшей их судьбою, раз ее не изменишь, она высказала ей желание, увидать письмо, которое проповедник написал своему другу, школьному учителю в Антверпене. Женщина, которая обладала достаточной опытностью, чтобы понять, какие последствия мог иметь этот шаг, почувствовала себя на мгновение поверженной в смущение; но так как почтенное лицо дамы вызывало безусловное доверие и никоим образом нельзя было допустить, чтобы ее намерением было дать содержанию письма официальный ход, то после краткого размышления она взяла письмо со своей груди и, напечатлев горячий поцелуй на руке благородной дамы, протянула его ей. Пока игуменья читала письмо, женщина бросила взгляд на небрежно развернутую на пульте партитуру; и так как, благодаря рассказу торговца сукном, она была наведена на мысль, не сила ли звуков разрушила и спутала в тот роковой день душевный строй ее бедных сыновей, она, робко обернувшись, спросила послушницу, стоявшую за ее стулом, не то ли это музыкальное произведение, которое шесть лет назад, в утро того достопамятного праздника тела христова было исполнено в соборе. На ответ молодой послушницы, что то,- она, помнится, слыхала об этом - и что с той поры, когда в этой партитуре не нуждаются, она обычно находится в комнате досточтимейшей игуменьи,- женщина поднялась, в сильном возбуждении, и стала перед пультом, волнуемая разнообразными мыслями. Она рассматривала незнакомые волшебные знаки, которыми, казалось, некий грозный дух таинственно очертил круг, и готова была провалиться сквозь землю, ибо она как раз нашла открытую страницу с Gloria in excelsis. Ей казалось, словно весь ужас музыкального искусства, который погубил ее сыновей, с рокотом проносится над ее головой; при одном этом виде она чуть было не лишилась чувств и поспешно, в безграничном порыве смирения и покорности перед божьим всемогуществом, прижавшись губами к листу, снова опустилась на свой стул. Тем временем игуменья прочла письмо до конца и сказала, складывая его: "Сам господь оградил монастырь в тот дивный день от дерзости ваших тяжко заблудших сыновей. Какими средствами он при этом воспользовался, вероятно для вас, как протестантки, безразлично; вы даже едва ли поймете то," что я могла бы вам сказать об этом. Ибо узнайте, что, в конце концов, никто не ведает, кто собственно, под давлением того страшного часа, когда иконоборческий погром должен был над нами разразиться, управлял, спокойно сидя за органом, тем произведением, которое вы видите тут раскрытым. Свидетельским показанием, которое было записано на утро следующего дня в присутствии монастырского кастеляна и нескольких других мужчин и помещено в архив, установлено, что сестра Антония, единственная, которая могла дирижировать этим творением, в течение всего времени его исполнения, больная, без сознания, совершенно не владея своими членами, лежала распростертая в углу своей монастырской кельи; послушница, которая была назначена, как родственница, состоять для ухода при ней, в течение всего того утра, когда в соборе справлялся праздник тела христова, не отходила от ее постели. Более того, сестра Антония несомненно сама подтвердила бы, что столь необычным и удивительным образом появившаяся на хорах органа, была не она, если бы ее совершенно бесчувственное состояние дозволило ее об этом расспросить и если бы больная не скончалась в вечер того же дня от нервной горячки, которая ее уложила в постель и раньше вовсе не казалась опасной для жизни. Да и архиепископ Трирский, которому было донесено об этом происшествии, уже произнес то слово, которое одно его объясняет, а именно, что святая Цецилия сама совершила это страшное и в то же время дивное чудо; а от папы я только что получила грамоту, коей он это подтверждает". И при этом она дала женщине письмо, которое она выпросила у нее лишь для того, чтобы получить более подробные разъяснения о том, что она уже знала, обещав не давать ему никакого хода; и после того как она еще расспросила женщину, есть ли надежда на выздоровление ее сыновей и не может ли она поспособствовать этому чем-нибудь, деньгами или другой какой поддержкой, на что та, целуя ее одежду, со слезами дала отрицательный ответ, она ласковым жестом руки отпустила ее.
На этом кончается легенда. Женщина, присутствие которой в Аахене было совершенно бесполезно, оставив маленький капитал, который она внесла в суд в пользу своих сыновей, отправилась обратно в Гаагу, где, год спустя, глубоко потрясенная всем происшедшим, вернулась в лоно католической церкви; сыновья же ее умерли в преклонном возрасте ясной и радостной смертью, после того как они еще раз, согласно своему обыкновению, пропели Gloria in excelsis.
Перевод Г. Рачинского
Произведения
Критика