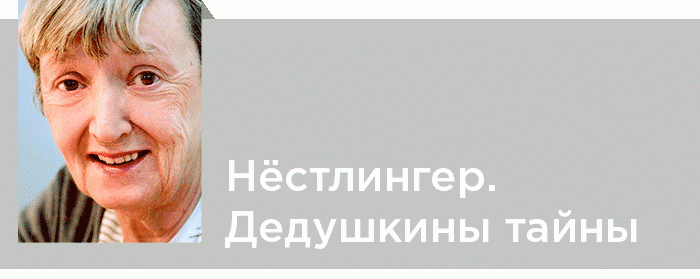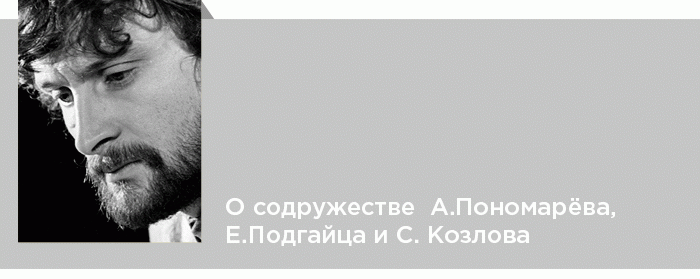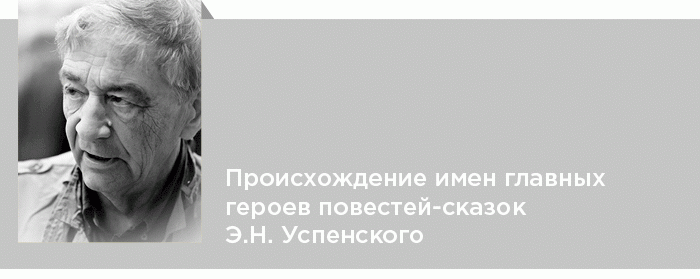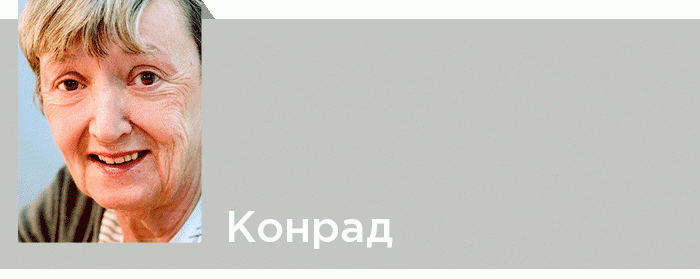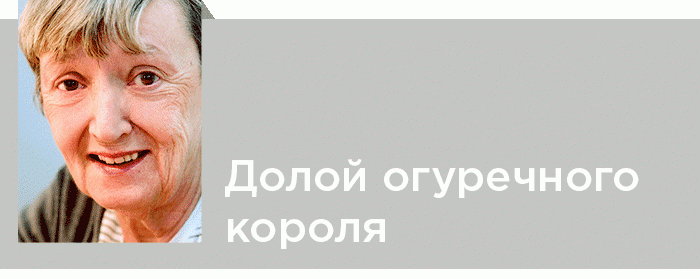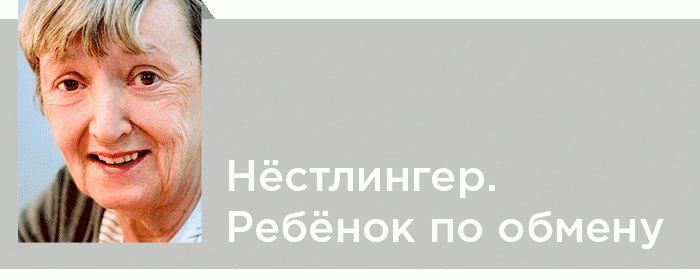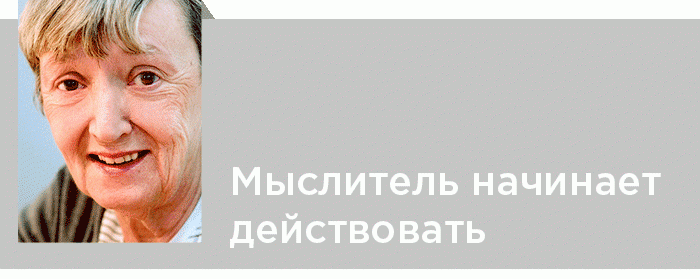Кристине Нёстлингер. Ильза Янда, лет – четырнадцать

(Отрывок)
Я все напишу, хотя и не знаю, с чего мне начать и что мне писать. Я только знаю, чем все кончилось.
Кончилось тем, что Ильза пропала.
Ильза – моя сестра. Она пропала. Ильза не вернется. А если она вернется, ее отправят в приют. Потому что невозможно больше нести ответственность – так они говорят. Попечительница из полиции сказала – сначала ее надо еще найти, а уж потом пусть мама решает, отправлять ее или нет. Папа сказал – он тоже имеет право высказать на этот счет свое мнение. Но кто его станет слушать. Да ему и сказать-то нечего.
Я не хочу, чтобы Ильза нашлась. Потому что ее отправят в приют.
Ничего я им не скажу.
Мама и Курт говорят, что я обязана рассказать все, что знаю. И папа, и бабушка, и все так говорят.
Ничего я им не скажу.
«Что угодно, только не это!» – сказала мне Ильза еще перед тем, как пропала. И это было так. Для нее, конечно.
Когда мне будет четырнадцать, как Ильзе, может, и со мной так будет. И тогда Оливер пусть тоже меня не выдает.
Ничего им не добиться. Я ничего не знаю!
Она надела красное пальто и сказала, что пойдет купит тетрадь в линейку. С полями. Больше я ничего не знаю, мама!
Больше она мне, правда, ничего не сказала, Курт! Ну правда, папа, правда!
А я, госпожа попечительница, как раз решала очень трудное уравнение с тремя неизвестными. Я на нее даже и не взглянула!
«Радуйся, что у нас такая большая семья, – говорит мне иногда мама, – в этом есть свои преимущества». Называть нас «большой семьей» – нет, это плохая шутка. Но свои преимущества тут, и правда, иногда есть. Например, в день рождения. В этот день я получаю подарки от трех бабушек, трех дедушек, от мамы, от папы, от отчима, от папиной жены, от бывшей жены отчима и от шести братьев и сестер.
Сперва кажется, что во всем этом не разобраться. А ведь на самом деле все довольно просто. Моя мама вышла замуж за моего отца и родила двоих детей: Ильзу и меня. Потом они развелись, и папа женился на другой, и у них опять родилось двое детей. А мама вышла замуж за Курта, и у них тоже родилось двое детей. А Курт еще раньше был женат, и у него есть ребенок.
Все это вовсе не такая уж редкость. В нашем классе у многих родители развелись, а потом опять женились и нарожали детей. Правда, некоторые не могут позволить себе новых детей – из-за алиментов на старых.
Мама с папой развелись, когда Ильзе было семь лет, а мне – пять. Говорят, они потеряли общий язык. Но что-то тут, наверно, еще было. А то зачем бы мама стала так прятать эту бумажку – решение суда о разводе. Один раз я искала мою справку о прививках и нашла это «Решение суда» в папке с документами, а мама как вырвет его у меня из рук! Я даже первый абзац дочитать не успела. Это вообще меня не касается. Так она сказала. И покраснела.
После развода мы с Ильзой сначала жили у бабушки – у папиной мамы. А папа остался на нашей старой квартире. А мама вернулась к своим родителям, и по субботам и воскресеньям мы тоже жили у ее родителей. Мама тогда работала секретаршей в газете.
В редакции она познакомилась с Куртом. Он был там редактором. Через два года она вышла за него замуж, и мы уехали от бабушки и стали жить у Курта. Потом у мамы родились Оливер и Татьяна. Татьяна – через год после Оливера. Оливер и Татьяна называют Курта папой. А мы с Ильзой – Куртом. Но отца и мать Курта мы все четверо зовем бабушкой и дедушкой.
Бабушку я вообще не перевариваю, потому что она меня не переваривает. А дедушка – ничего, хороший. Раньше мой дедушка – папин отец – тоже был очень хороший. Но теперь у него жуткий склероз, и он говорит так чудно. Бабушка иногда даже плачет, когда он так чудно говорит. Он все что-то бормочет себе под нос, а в последний раз даже спросил, как меня звать и кто я такая.
– Да ведь это же Эрика! Эрика! – крикнула бабушка.
(Дедушка еще вдобавок почти ничего не слышит.)
– Ах, да, да, Эрика! – сказал дедушка, а через две минуты опять спрашивает:
– Это что же за девочка? Как ее звать?
Каждый четверг я хожу после школы к бабушке и дедушке. Раньше Ильза тоже со мной ходила. Еще год назад. Когда дедушка не был такой чудной. А теперь она просто увиливает. А еще она говорит, что у бабушки всегда воняет кислой капустой и жареной картошкой. Это правда. Ну и что ж тут такого? По-моему, запах как запах.
Только это не бабушкиной капустой воняет. Это из квартиры Губеров – на их этаже. У них кухня прямо за дверью. И у бабушки тоже. А окон в кухне в их доме вообще ни у кого нет. Только дверь в коридор из стеклянных матовых плиток. А наверху на ней – форточка. И она всегда приоткрыта. Вот запах и идет в бабушкину квартиру. Что она может поделать?
– Родители моего экс-супруга живут ужасно! Просто ужасно! Трудно поверить, что в наше время такое еще возможно, – рассказывала мама недавно своим гостям. И тут она стала описывать кухню и комнату бабушки и дедушки. У них даже крана нет – моются в пластмассовом тазу. А в комнате ни проехать, ни пройти – две огромные кровати и четыре шкафа, доверху набитые всяким старьем. А под кроватями еще какое-то барахло: чемоданы, баулы, картонки, ящики.
– И представьте себе, в этой тесной каморке, заставленной ненужными вещами, стоит еще маленький столик. Другого у них вообще нет. А на нем громадный букет искусственных роз ярко-розового поросячьего цвета!
Ильза сидела рядом с мамой. Глаза у нее стали узкие-узкие, как у кошки. У Ильзы, когда она злится, глаза всегда как у кошки. Но мама даже и не заметила Ильзиного кошачьего взгляда. Она обернулась к Ильзе и спрашивает:
– А может, у них теперь уже другой букет на столе стоит?
– Пойди и посмотри, если это тебя так волнует! – вспыхнув, бросила Ильза и выбежала из комнаты.
Мама удивленно поглядела ей вслед, а гостья сказала, что девочки в переходном возрасте всегда очень трудны.
Тогда мама стала спрашивать меня. И я уже собиралась ей ответить, что бабушка сменила розы на три пластмассовых ириса, но не успела еще и рот раскрыть, как Курт крикнул:
– Да прекрати ты, черт побери, Лота, обсуждать такие вещи!
И мама тут же переменила тему. Я пошла в нашу комнату. Ильза сидела за письменным столом и покрывала ногти мертвенно-зеленым лаком. Она дрожала от злости, и зеленый лак то и дело попадал ей на пальцы.
Она сказала, что мама ее просто заводит. Ей просто дышать нечем, когда мама начинает вот так выступать.
– А ее итальянское зеркало в спальне, – не унималась она, – точно такая же мерзость, как бабушкины розы! Только стоит куда дороже! Мама воображает, будто что-то собой представляет – потому, что нашла себе мужа с квартирой в шесть комнат!
Я хотела успокоить Ильзу и сказала:
– Ты права, но волноваться из-за этого нечего.
– А ты вообще хладнокровная рыба! – взвилась Ильза и наговорила мне еще много всякого, но я все равно знаю, что она так не думает. Когда Ильза разойдется, она машет руками как бешеная.
Она задела флакон с лаком для ногтей, и он перевернулся. Мертвенный лак пролился на письменный стол. Я хотела его вытереть, но его разве вытрешь! Письменные столы у нас совсем новые. Я боялась, что мама из-за пятна будет ругаться. Я принесла растворитель и вылила его на пятно, но в растворителе, оказывается, есть ацетон, а от него сошла полировка, и опять получилось пятно, только еще больше.
– Ну вот, поправила дело, растяпа! – прорычала Ильза.
Никогда я не могу как следует разозлиться. Даже если со мной вот так обращаются.
Я сказала:
– Да не волнуйся ты! Я скажу маме, что это я виновата.
– Спасибо, обойдемся!
Она сказала это как-то так, что я поняла – нет, это она не воображает, это она всерьез.
– Но ведь мама, знаешь, как разойдется! Жутко! – сказала я.
– Ну и что? Пусть ее! Если мне это чересчур надоест, я вообще уйду!
До меня даже не сразу дошло. Я подумала, что она тогда просто уйдет в другую комнату. Или в туалет. Я и сама там часто отсиживаюсь, когда мама слишком долго меня ругает.
Но тут Ильза сказала:
– Я и так сыта по горло. У меня это все давно уже вот где сидит! Прямо хоть ори!
Я принесла из кухни мокрую тряпку и вытерла письменный стол. Красивее он от этого не стал.
– Куда же ты собираешься уйти? – спросила я.
– Да тут тысяча возможностей, тысяча!
Но прозвучало это так, будто ни одной возможности она назвать не могла. И я не стала ее больше расспрашивать.
Я, наверно, не с того начала.
Я хочу написать про Ильзу. Надо, пожалуй, сперва описать, как Ильза выглядит. Это ведь очень важно.
Ильза красивая. Не то что хорошенькая, или миловидная, или как там еще говорят. Она красивая. Вся, сверху донизу. От прямого пробора на голове до пальцев на ногах с педикюром у нее нет ничего, что не было бы красиво.
У нее очень густые каштановые волосы, прямые, гладкие, до плеч. Ни разу еще у нее на лице не выскочил ни один прыщик. Глаза у нее серые, с зелеными точками. А нос совсем маленький. Она очень тоненькая, но грудь у нее высокая, конусом. Талия у нее всего сорок шесть сантиметров, и ее учитель рисования вычислил, что все пропорции у нее в точности, как у греческих статуй. Я могла бы исписать еще много страниц, рассказывая про внешность моей сестры. Про ее белые зубы и длинные ресницы, и про ноги, о которых Ганси говорит, что это «не ноги, а дивный сон». Но все равно это не главное. А главное – вот что: в Ильзе есть что-то, чего нет во всех других. Я уже сколько раз это замечала! Когда я на большой перемене захожу к ней в класс, там стоят у стены, сидят на подоконнике и бродят между рядами больше тридцати девочек. Хорошенькие, так себе и дурнушки. И среди них – Ильза. Но она какая-то совсем другая.
Герта из Ильзиного класса тоже очень красивая. Но когда Герта надевает старый вылинявший свитер, все это сразу видят. А вот если моя сестра наденет старый застиранный свитерок, этого никто не заметит. Самый дешевенький свитер выглядит на ней как шикарный дорогой сверхмодный пуловер.
Вот – теперь я знаю!
Моя сестра Ильза как будто сошла с рекламы. Только, конечно, не с рекламы стирального порошка или там яичной лапши высшего сорта. Она с рекламы «Смелей вперед!», с рекламы «Автомашины высокой скорости для молодых людей». Принцесса кока-колы и мартини – вот она кто! Только по внешности, конечно.
Раньше Ильза не была такой красивой.
Когда мы еще жили у бабушки, мы каждый день ходили на рынок. Бабушка все покупает только на рынке. Она проходит по всем рядам, смотрит, пробует, ощупывает, приценивается. Запоминает, у кого сколько стоит салат, огурцы, апельсины. Самый дешевый товар всегда у госпожи Кратохвиль, и бабушка давно бы должна усвоить, что она отдает все дешевле других. Ведь бабушка вот уже сорок лет изо дня в день ходит на рынок. Но по ее понятиям, хорошая хозяйка сперва обойдет весь рынок, а уж потом покупает.
Когда мы с бабушкой ходили по рынку, все там всегда говорили Ильзе:
– Ты что так насупилась?
А про меня говорили, что я веселая и простая.
Дворник в том доме, где живет бабушка, сказал как-то: «Если б Ильза не глядела исподлобья, а улыбалась, ее даже можно было бы назвать красивым ребенком!»
Но Ильза в то время почти никогда не улыбалась. Во всяком случае, я этого не помню.
Я помню только, что она все время писала буквы. Она сидела за маленьким столиком перед вазой с букетом искусственных роз и исписывала буквами целые страницы. Дедушка сердился и говорил, что она себе зрение испортит, но она все писала и писала.
Она была тогда во втором классе. И как раз перешла в другую школу. Потому что мы ведь летом после развода переехали к бабушке, а бабушка живет очень далеко от нашего прежнего дома. Новая учительница в новой школе учила писать буквы совсем по-другому, чем старая. Поэтому Ильза и писала буквы – буквы, буквы, буквы.
Но все это было зря. Через два года мы все равно переехали к Курту. И Ильза снова попала к другой учительнице, а та опять потребовала, чтобы она писала буквы совсем по-другому.
Наверно, поэтому у Ильзы такой почерк – прямой, ровный, словно прописи. «Образцовый» почерк. «Ее тетрадки – просто отрада», – говорила нашей маме учительница на каждом классном собрании.
Но в последнее время Ильзины тетрадки вряд ли были отрадой для учительницы.
Вчера я наводила порядок в Ильзином письменном столе. Не потому, что я так люблю порядок, а просто мне хотелось подержать в руках Ильзины вещи. Лучше уж вещи, чем совсем ничего.
Ну, так вот, я разбиралась в Ильзином столе и заглянула в ее тетради. И тут я просто обалдела. В каждой тетрадке была исписана всего одна страница, да и то не до конца. А в тетрадке по математике и по латыни вообще все страницы были чистые.
Ничего я не понимаю! Ведь она каждый день после школы часами сидела за письменным столом. Иногда до позднего вечера, когда я уже лежала в постели. И если я пыталась с ней заговорить, не поднимая головы, отвечала: «Тише, я занимаюсь», «Замолчи, ты мне мешаешь». А еще я нашла у нее в столе записные книжки – четыре маленькие и три большие. И все исписаны ровненькими каракулями – петелька за петелькой, петелька за петелькой... И так строка за строкой. А на некоторых строчках – зубчики. Зубчики, зубчики, зубчики... А несколько страниц сверху донизу зарисованы какими-то крошечными ящичками – красными и зелеными.
Нет, я правда ничего не понимаю! Выходит, Ильза часами сидела за письменным столом и рисовала петельки, зубчики и ящички. Чем вот так сидеть и рисовать петельки и ящички, по-моему, лучше уж уроки делать. Или совсем ничего не делать – слушать пластинки.
Дневник ее в синем бархатном переплете тоже лежал там, в ящике. Такой, с золотым замочком посредине – он прикреплен к бархату четырьмя гвоздиками. Замок был заперт, и я вытащила гвоздики. Но в дневнике вообще ничего не было! Даже петелек не было, даже зубчиков. И ни одного ящичка. Но на письменном столе под бумагой я нашла записку: ВОЛЬФГАНГ, Я ПО ТЕБЕ ТОСКУЮ! А ТЫ И НЕ ЗНАЕШЬ?
Записка была очень старая, двухлетней давности, не меньше. Потому что написана зелеными чернилами. А Ильза уже давным-давно пишет синими.
Когда я прочла эти слова – ВОЛЬФГАНГ, ТОСКУЮ, – мне стало как-то не по себе. Во-первых, потому, что я прочла то, что меня вовсе не касается, а еще потому, что Ильза просто взбесилась бы, если б узнала, что я это прочла. Это уж точно. А еще потому, что «тосковать» – это что-то очень странное. Я не хочу, чтобы моя сестра «тосковала». Не знаю, какого Вольфганга она тогда имела в виду. Их так много, этих Вольфгангов. Не меньше чем о восьми могла тут идти речь. И на всех восьмерых Вольфгангов я разозлилась: почему это по какому-то из них моей Ильзе пришлось тосковать! А еще мне стало грустно, что сама я об этой тоске даже и не догадывалась.
Я попробовала вспомнить, как все было тогда – два года назад. Но все равно я не могла додуматься, какой из Вольфгангов это мог быть. И вообще не могла себе представить, чтобы у Ильзы тогда оставалось еще время на какого-то Вольфганга.
Каждый четверг мы ходили в гости к бабушке и дедушке. Каждую субботу должны были встречаться с папой. В среду в обязательном порядке посещали маминых родителей. (Мама тогда еще с ними не поссорилась.) В понедельник после школы мы должны были сидеть дома – ждать прихода дедушки и бабушки.
А воскресенье – «семейный день», это и теперь так заведено. Мама твердо стоит на том, что мы всей семьей должны выезжать на машине куда-нибудь за город. Тут уж не отвертишься. Даже не заикайся, что хочешь подготовиться к контрольной или к сочинению.
А по вечерам два года назад Ильза обязана была уже в семь часов быть дома. На пятнадцать минут опоздаешь – у мамы припадок.
Тут уж для Вольфганга и минутки не сыщешь. Для тоски – еще пожалуй.
А может, это был тот Вольфганг, что подарил ей морскую свинку?
Мама всегда против животных. И Курт тоже. Я всю жизнь мечтаю о кошке. Черной-пречерной. Но маму не прошибешь.
Это было примерно два года тому назад. Зимой. Да, зимой, потому что было уже темно, когда Ильза вернулась домой с тренировки. Она позвонила, я открыла дверь. В руках она держала коробку. Она стояла, прижав ее к груди.
Мама была тут же, в передней, говорила по телефону с приятельницей. Она обернулась и с любопытством взглянула на коробку, а потом на Ильзу.
Ильза все стояла у вешалки, не снимая пальто, крепко обхватив руками коробку. Мама повесила трубку и спросила:
– Что это у тебя там, в коробке?
Ильза не отвечала. Мама подошла к ней и заглянула в коробку.
– Ты что, с ума сошла? – вскрикнула она.
Ильза, не отвечая, в упор смотрела на маму.
– Ни под каким видом! – резко сказала мама. – Откуда у тебя эта пакость?
Она говорила еще много и почти уже перешла на крик. Ильза все глядела на нее молча.
Тут из гостиной вышел Курт, а из детской выбежали Оливер и Татьяна. Татьяна тогда была еще совсем маленькая. Она хотела заглянуть в коробку и с ревом дергала Ильзу за полу пальто:
– Посмотлеть! Посмотлеть! Посмотлеть!
Ильза не давала ей посмотреть.
Я хотела вынуть морскую свинку из коробки и погладить ее. Ильза отодвинулась от меня, отступила к двери. Я поняла, что она и меня не хочет подпустить к свинке.
Оливер ухитрился, поднявшись на цыпочки, заглянуть в коробку.
– Я тоже хочу морскую свинку! – крикнул он.
– Сейчас же отнеси ее туда, где взяла! – в голосе мамы появилась визгливая нотка. – Сию же минуту!
– Может быть, оставить ее денька на два для пробы? – тихо сказал Курт маме. Но Оливер и Татьяна расслышали.
– Оставить, оставить, оставить! – закричал Оливер.
Мама сердито посмотрела на Курта, но потом сказала, вздохнув:
– Ну что ж, если ты так считаешь.
И ушла на кухню.
Курт побежал за ней и стал извиняться. Ведь он только внес предложение. Ведь свинку еще не поздно отнести туда, где ее взяли.
– Для пробы! Какой идиотизм! – возмущалась мама. – Если уж они ее втащат в дом, ее у них не отберешь!
Потом она снова вздохнула и сказала:
– Ну все, теперь у нас поселилось это безобразное животное! А кто будет за ним убирать? Покупать корм? Знаю я, как это бывает! У меня тоже была морская свинка. В детстве. А кому приходилось о ней заботиться? Моей матери!
Но мама ошиблась. Ильза сама заботилась о морской свинке. Она купила ей клетку из своих денег на карманные расходы и корм с тремя витаминами. Каждый день она чистила клетку. Она часами держала свинку на коленях и гладила ее.
Только мне одной разрешалось до нее дотрагиваться. Мама и Курт, правда, и без того не собирались трогать свинку, но Оливер и Татьяна только об этом и мечтали. Да и понятно. Но Ильза им не разрешала. Когда она уходила, она ставила клетку с морской свинкой на шкаф. А когда была дома и Оливер с Татьяной приходили к нам в комнату, чтобы поиграть со свинкой, шипела:
– А ну-ка, испаряйтесь отсюда! По-быстрому!
Когда Ильзы не было дома, я всегда разрешала Оливеру играть с морской свинкой. Не знаю, чем он мог повредить зверьку. Ведь морская свинка – я установила это совершенно точно – вообще не имеет никаких личных привязанностей. Ей абсолютно все равно, кто ее гладит. Мне кажется, и мама по утрам, когда мы были в школе, доставала клетку со шкафа. В комнате Оливера и Татьяны я не раз находила опилки, которыми посыпан пол клетки, а один раз даже нашла огрызок морковки.
Морская свинка жила у нас целый год, а потом случилось вот что. Ильза мыла голову в ванной, а я вытирала посуду на кухне.
Дверь в нашу комнату была открыта. Клетка с морской свинкой стояла на Ильзином письменном столе.
Татьяна вбежала в комнату. Она вскарабкалась на стул, со стула – на стол и вынула морскую свинку из клетки.
Наверно, она ее слишком крепко сжала и сделала ей больно. Татьяне было тогда всего три года. Во всяком случае, Анжелика – так звали морскую свинку – почуяла опасность. Сперва она громко завизжала. А потом Татьяна заорала как резаная. Морская свинка укусила ее за палец. Довольно сильно. Из пальца текла кровь.
Ильза услышала визг морской свинки и прибежала из ванной с намыленной головой.
Мама услышала рев Татьяны и прибежала из гостиной.
А я прибежала из кухни.
Татьяна стояла на столе, подняв вверх окровавленный палец, и громко ревела.
Морская свинка лежала на полу рядом с дверью. Из ее мордочки текла кровь. Куда больше крови, чем из пальца Татьяны.
Ильза подняла морскую свинку. Та была мертва.
Наверно, она стукнулась головой о ручку двери, когда Татьяна в испуге ее швырнула.
Ильза подошла с мертвой морской свинкой к своей постели. Она положила ее на одеяло. Сначала мне показалось, что Ильза хочет сесть на кровать и что она вот-вот заплачет. Но она не села и не заплакала.
Мама сидела на стуле возле письменного стола Ильзы. Она держала на коленях Татьяну и дула ей на палец, приговаривая:
– Ну ничего, ничего! Вот видишь, уже совсем не больно! Сейчас все пройдет!
И вдруг Ильза подскочила к маме. Она схватила Татьяну и поставила ее на пол.
– Я убью ее! – заорала она. – Я убью ее!
Это было просто ужасно.
Татьяна заревела еще громче. За одну руку ее тянула Ильза, за другую мама.
– Сейчас же оставь в покое ребенка! – мама задыхалась.
– Я убью ее! – орала Ильза.
Мама отпустила руку Татьяны и начала хлестать Ильзу по щекам. Ильза топталась на месте с выражением бешенства на лице и, нечаянно наступив маме на ногу, разорвала ей чулок и оцарапала лодыжку. Тут Татьяна вырвалась и с ревом выбежала из комнаты.
Мама продолжала хлестать Ильзу.
– Ты совсем спятила! Ты вообще разум потеряла! – пронзительно кричала она. – Из-за какой-то паршивой свинки ты готова убить сестру!
Мама схватила Ильзу за волосы.
Потом она толкнула ее на постель, на мертвую свинку, и вышла из комнаты. Руки ее дрожали, она так тяжело дышала, как будто ей было плохо с сердцем.
Ильза целый час лежала на постели. С мокрой намыленной головой она лежала на окровавленной мертвой свинке, и я не могла придумать, как мне ее утешить.
Через час Ильза поднялась.
Она достала из ящика письменного стола коричневую оберточную бумагу, завернула в нее морскую свинку, взяла красный карандаш и написала большими буквами: «Анжелика». Потом сунула мне сверток в руки и тихо сказала:
– Отнеси ее вниз на помойку.
– Мы можем похоронить ее у дедушки в саду, – предложила я.
Ильза покачала головой.
– Неси на помойку.
Я взяла сверток и спустилась с ним в подвал. Там я бросила Анжелику в бак для мусора.
Вечером Курт пришел в нашу комнату. Выражение лица у него было довольно беспомощное. Он спросил, нельзя ли ему купить Ильзе другую морскую свинку.
Ильза тупо поглядела на него и сказала:
– А ты купи своим собственным детям!
Лицо у Курта стало еще беспомощнее. Он два раза открыл рот и снова закрыл его. Хотел что-то сказать, но потом махнул рукой и вышел из комнаты.
Я сказала Ильзе, что она все же несправедлива к Курту. Ведь Курт-то меньше всех виноват. Она набросилась на меня:
– Может, тебе его жалко? Может, ты его любишь?
– Он ничего мне не сделал, – сказала я. Я не хотела спорить с Ильзой. – Да и тебе тоже. Он мне не мешает.
Мне хотелось все-таки как-нибудь защитить Курта.
– Зато его дети мне очень мешают, это уж точно! – крикнула Ильза.
Я сказала, что это ведь дети не только Курта, но и нашей мамы, а значит, наши брат и сестра. Но Ильза возразила:
– Нет, мне они уж никак не брат и сестра! Так же, как папины дети! Или, может, и макаки – твои брат и сестра?
Под макаками она подразумевала новых детей папы. Я покачала головой. Макак я тоже терпеть не могла.
– Ну вот, – торжествующе сказала Ильза.
– Но ведь Оливер иногда такой милый, – сказала я.
– Ну и что? Мне-то какое до этого дело?
– Никакого. Конечно, никакого.
Я не хотела с ней спорить. И еще мне было ее жалко. Когда у человека убьют его любимую морскую свинку, слишком уж много от него требовать – чтобы он находил убийцу или его родственников милыми.
Но хотя Ильза постоянно твердила, что она терпеть не может Татьяну и Оливера, я ей не так-то уж верила: Оливер не раз показывал мне жвачки и леденцы, подаренные Ильзой. А один раз показал даже маленькую гоночную машинку. И с прогулками было то же самое.
Раз в неделю Ильза должна была гулять с Оливером и Татьяной. Ильза, правда, всегда проклинала эти прогулки и говорила, что уж лучше бы ей выводить на прогулку семь такс, чем этих двоих животных, но я несколько раз видела их втроем в парке – Ильза сидела в песочнице, играла там с ними и что-то говорила с улыбкой. Правда, стоило ей заметить меня, как она тут же вскакивала и кричала:
– Ну все! Хватит с меня этих отравных гномов! Отведи-ка ты их домой!
Произведения
Критика