К проблеме авторской позиции в романе Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»
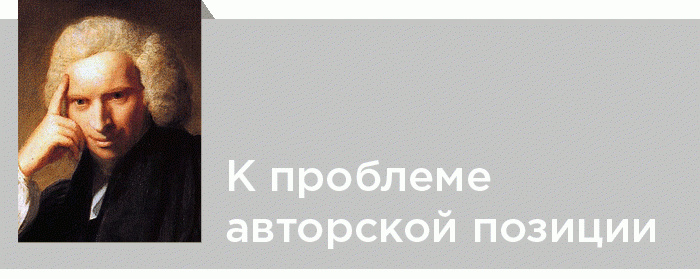
Зорин Л.Л.
Попытки истолковать роман Стерна в духе искренности и чувствительности начались уже со времени первой публикации «Тристрама Шенди», продолжавшейся восемь лет, и особенно усилились после выхода в свет «Сентиментального путешествия». Нежная чувствительность и трогающая душу патетика воспринимались как основное достоинство Стерна, а его шутовство и буффонада либо рассматривались как досадный балласт, портящий впечатление, либо вовсе не принимались во внимание.
Пожалуй, только в XX веке исследователи всерьез задумались, был ли в самом деле сентиментален Стерн, не пародийны ли его произведения? Выход в
В полемике с таким осерьезниванием Стерна родилась еще одна точка зрения. Ее адепты считают, что единственной целью Стерна было развлечь читателя, неважно - непристойной ли шуткой или элегической сентенцией.
Из сказанного видно, как разнятся между собой взгляды на Стерна его исследователей и читателей. Видно и другое: ключевым пунктом всех разногласий является вопрос об авторской позиции, об отношении писателя к изображаемому им миру, о мере его искренности и серьезности. Для нашего рассмотрения этого вопроса соотнесем роман Стерна с культурным явлением, чрезвычайно важным для него, - с ренессансным гуманизмом. (Нас интересует в первую очередь не реальный, сложный и неоднозначный облик ренессансного гуманизма, а то представление о нем, которое господствовало в Англии XVI века и определило отношение к нему Стерна). Со времени выхода в
Бахтин характеризует смех Рабле как универсальный, всенародный и амбивалентный. Весь роман Рабле, по существу, представляет собой победу смеха и его носителей - компании пантагрюэлистов - и посрамление ненавистников смеха - агеластов. Ничего подобного нет в «Тристраме Шенди», Собственно говоря, только два персонажа романа - Йорик и сам Тристрам - чутки к смеху, все остальные к нему абсолютно глухи. Да и положение смеха и шутников далеко не бесспорно. «Травля бедных остроумцев», на которую жалуется автор, вынуждает его чрезвычайно часто в пространных рассуждениях отстаивать право на смех и права смеха. Вместо растерзания агеластов на первых страницах романа рисуется расправа разъяренных агеластов над шутником Йориком. Самому повествователю все время угрожает смерть от «астмы, схваченной во время катания на коньках против ветра во Фландрии» (болезнь из-за веселья). Он «порвал себе сосуд в легких, разразившись хохотом при виде кардинала, мочившегося, как простой певчий (обеими руками), вследствие чего за два часа потерял две кварты крови». Страдание становится расплатой за веселье. Такое соотношение смерти и смеха резко отличается от амбивалентной, «чреватой последующим возрождением и обновлением» смерти у Рабле, включающей как одну из разновидностей смерть от смеха. Циклическое, природное время коллективного человека, свойственное карнавальному мироощущению, лежащему, по Бахтину, в основе романа Рабле, бесповоротно сменилось линейным временем индивидуального человека эпохи Просвещения, для которого смерть есть последняя и трагическая точка его существования, не способного к возрождению и обновлению.
Тема смерти занимает в «Тристраме Шенди» большее место, чем можно было бы ожидать от такой веселой книги. Умирает Йорик, уже само имя которого вызывает воспоминание о смерти. Смерть гонится (в самом прямом смысле этого слова) за Тристрамом, хоронят на страницах романа капрала Трима и дядюшку Тоби. И в прямых сентенциях Стерн снова и снова возвращается к теме смерти. Рассмотрим эту проблему в поставленном нами ракурсе - в связи с временным аспектом повествования.
В «Тристраме Шенди» перекрещиваются два пласта - время в описываемых событий и время, в которое ведет свое повествование сам Тристрам. Один временной массив связан с зачатием, рождением и воспитанием Тристрама, а также любовными похождениями дядюшки Тоби с вдовой Водмен, другой - с тем моментом, когда Тристрам пишет свое жизнеописание, рефлектирует по этому поводу, ведет полемику по литературным и нравственным вопросам, беседует с «милой Дженни» и с благоразумным Евгением. Сюда примыкает и седьмой том романа, описывающий путешествие взрослого Тристрама во Францию. Здесь автор всячески стремится подчеркнуть и усилить впечатление одновременности протекания событий и их описания, тогда как, говоря о событиях, относящихся к первому временному массиву, он преследует прямо противоположные цели. Для удобства изложения мы будем называть два эти пласта «временем Шенди-холла» (все происходящие в этом массиве события протекают в Шенди-холле и его окрестностях) и «временем взрослого Тристрама».
Подобное временное разделение в сбитом или развернутом виде присутствует в каждом произведении, выдержанном в автобиографической форме. Предполагается, что повествованием о развитии описываемых событий во времени рассказчик заполнит промежуток между двумя этими пластами. Осознавая логику выбранной формы повествования, Стерн, однако, категорически отказывается подчиниться ее законам. Дело здесь не в том, что повествование доведено лишь до пятого года жизни героя, а в том, что «время Шенди-холла» устроено совершенно особым образом. С самого начала своего жизнеописания Тристрам обещает, что история романа дядюшки Тоби с вдовой Водмен станет венцом его рассказа. В то же время Стерн сразу дает понять читателю, что эти любовные похождения имели место до зачатия Тристрама. Доводя рассказ до решения одеть на Тристрама штаны, Стерн переходит к давно обещанной им теме отношений дядюшки Тоби и вдовы Водмен. Развивая эту тему в конце шестого, восьмом и девятом томах, автор в финале романа и хронологически, и возвращением к исходным мотивам, и упоминанием в последней фразе сказки про Белого Бычка возвращает нас к первым страницам романа.
Перед нами парадоксальная картина. Мы знаем, что с течением времени персонажи романа должны умереть, но время, в котором они живут, замкнуто и этим течением не обладает. Средством снятия этого неразрешимого противоречия является для Стерна «отступательное искусство» (термин, принадлежащий самому Стерну): «... отступления - это солнечный свет, это жизнь и душа чтения, заберите их, например, из этой книги, вы можете с тем же успехом забрать всю книгу вместе с ними...». Более того, Стерн заставляет Тристрама осознавать такую технику письма как конструктивно важную для романа и глубоко увязанную с временным аспектом повествования в его соотношении с проблемами жизни и смерти: «В текущем месяце я стал на целый год старше, чем был в это же время двенадцать месяцев тому назад, а так как я... все еще не могу выбраться из первого дня моей жизни, то отсюда очевидно, что сейчас мне предстоит описать на триста шестьдесят четыре дня жизни больше, чем тогда, когда я впервые взял перо в руки; стало быть, вместо того, чтобы, подобно обыкновенным писателям, двигаться вперед со своей работой по мере ее выполнения, я, наоборот, отброшен на указанное число томов назад... при таком расчете я бы жил в триста шестьдесят четыре раза скорее, чем успевал бы записывать свою жизнь. Отсюда неизбежно следует... что чем больше я пишу, тем больше мне предстоит писать...».
Отступательное движение заменяет поступательное. Из мира линейного времени с его железными неотвратимостями вычленяется особым образом устроенное время эксцентричного балагана Шенди-холла, самодовлеющее, замкнутое и потому не знающее смерти. Речь здесь идет, разумеется, не об объективном возврате к циклическому представлению о времени, исторически уже невозможному, но о субъективном стремлении к такому возврату, а верней, о релятивизации и дискредитации, хотя бы в пределах романа, представления о линейном времени человеческой жизни, единственным и неизбежным концом которой является смерть.
Аналогичным образом и в тесной связи с временными организованы в романе пространственные отношения. Те немыслимые зигзаги, которые описывает Тристрам в своих путешествиях по Франции, являются пространственным аналогом причудливых отступлений, совершаемых им во времени. Во «времени взрослого Тристрама» от смерти нет защиты и герою приходится бежать от нее во Францию, страну, связанную в художественном мире «Тристрама Шенди» с непристойной двусмысленностью: «... пусть-ка попробует лучший сажатель капусты... двигаться осмотрительно и канонически, сажая свою капусту одну за другой по прямым линиям и на стоических расстояниях, особенно, когда прорехи в юбках не зашиты, - не раскорячиваясь и не уклоняясь незаконным образом вбок. В Гренландии, Финляндии, в некоторых других хорошо мне известных странах - это, пожалуй, возможно. Но под этим ясным небом, в стране фантазии и потовыделения... где я нынче сижу... между тем как из окна моей комнаты открывается вид на все извивы путей Юлии, блуждавшей в поисках своего Диего...».
Из этой цитаты отчетливо видно отношение Тристрама к Франции, стране незаконных отклонений вбок («уклонения вбок», Стерн употребляет то же слово, что и для характеристики своего отступательного искусства), стране извивов путей Юлии (аллюзия на повесть Слокенбергия, вершину неприличия в романе). Именно здесь можно пытаться ускользнуть от смерти, если ты уже оказался вырван из «времени Шенди-холла».
Мир Шенди-холла и его окрестностей, как мы уже писали, не знает смерти. Кровавая деятельность профессионального военного превращается здесь в безобидные забавы человека, неспособного и мухи обидеть. (В этом контексте, нам кажется, особенно раскрывается символический смысл эпизода, в котором дядюшка Тоби отпускает, не убивая, надоевшую муху, эпизода, вызвавшего взрыв восторгов и такой же взрыв обвинений в аффектированной слезливости). Восприятие обитателями и посетителями Шенди-холла смертей за его пределами носит пародийно-комический характер. Вспомним, как приняли в доме Вальтера Шенди известие о кончине Бодби и историю смерти Ле Февра. Это естественно. Не знающее смерти «время Шенди-холла» не может по-настоящему постигнуть и ощутить ее смысл и значение.
При описании действительности, окружающей Шенди-холл, сатирическая краска у Стерна начинает преобладать.
Сомноленций, Гастрифер, Агеласт населяют это безжизненное царство, лишенное каких бы то ни было пространственных и временных определений. И этому внепространственному и вневременному миру, в котором господствует смерть, противопоставлен кукольно-балаганный хронотоп Шенди-холла, в котором преобладает смеховое начало.
Другой смысловой узел романа, также чрезвычайно важный для понимания позиции автора, - непристойности и двусмысленности в поэтике «Тристрама Шенди». Пожалуй, ни за одну другую особенность своего романа не получал Стерн столько обвинений и нареканий. Только в нашем столетии к этой стороне стерновского романа стали относиться более либерально. Значение неприличия для художественного строя «Тристрама Шенди» невозможно переоценить. Снова первое, что приходит на память, - это аналогия о Рабле. Уж очень давно читатели, критики и исследователи отмечают зависимость Стерна от Рабле в этом отношении. Действительно, среди классических произведений европейской литературы трудно найти (за исключением, до некоторой степени, Боккаччо и Вийона) авторов, книги которых были бы так погружены в стихию неприличного.
Но и здесь за соответствием необходимо увидеть глубокие отличия. Эротика Рабле есть торжество прославляемой плоти, полной мощи, радости и здоровья. Проявлением всех этих свойств служит раблезианское понимание полового акта, несущего в «Гаргантюа и Пантагрюэле» важную жизнеутверждающую функцию. Может быть, отчасти и поэтому Рабле очень часто на страницах своего романа, избегая эвфемизмов, не стесняется называть вещи своими именами.
У Стерна все не так. Мир «Тристрама Шенди» - мир ущербной эротики; гиперболизированную сексуальную мощь героев Рабле и Боккаччо заменяет немощность и неполноценность персонажей «Жизни и мнений…»
Дядшка Тоби награжден ранением в паху, внушающим вдове Водмен серьезные сомнения в его пригодности к супружеской жизни. Да и самого Тристрама с этой стороны поджидают постоянные неудачи. Его появление на свет сопровождается повреждением носа, вслед за этим происходит знаменитый эпизод с оконной рамой, едва не приведший к оскоплению Тристрама. Все это служит как бы преддверием катастрофы, которая постигает героя с милой Дженни. Та же картина и во вставных историях. Блестящий красавец Сьер де Круа вынужден покинуть Наварру из-за отсутствия усов (прозрачный намек на сексуальные дефекты). Даже «Повесть Слокенбергия» о чужеземце с носом необыкновенных размеров носит тот же характер. Все жители Страсбурга, не исключая и Юлии, возлюбленной чужеземца, подвергают сомнению его подлинность (еловый, пергаментный, медный, мертвый - вот те эпитеты, которыми награждается нос Диего), и сам Диего подтверждает эти предположения, запрещая кому бы то ни было прикоснуться к своему носу. Развеять их, по обещанию Стерна, должна следующая повесть Слокенбергия, из которой Стерн сообщает читателям только заглавие, впрочем, весьма красноречивое: «Затруднения Диего и Юлии».
Мы видим, что тема полового бессилия занимает в «Тристраме Шенди» значительное место. При этом глубинная миросозерцательная символика акта совокупления оказывается у Стерна начисто утерянной. История с ложной беременностью госпожи Шенди, приводящей впоследствии во время второй, настоящей ее беременности к несчастью, может служить тому иллюстрацией.
Эротика оказывается вытесненной в низкую, бытовую и запрещенную сферу человеческого бытия. Нигде в «Тристраме Шенди» нет прямых обозначений акта совокупления и связанных с ним органов. Стерн прибегает либо к звездочкам, либо к эвфемизмам. Заменяя табуированные слова их литературными эквивалентами, выбираемыми обычно по аналогии и уподоблению, язык проделывает в эвфемизме путь от неприличного к приличному, но тем самым он начиняет нейтральную лексику вторыми значениями, подготавливая почву для двусмысленности, совершающей движение в обратном направлении от приличного к неприличному.
Стерн исключительно чуток к непристойной начинке языка. Подобно Ходже Насреддину, он постоянно призывает своих слушателей «не думать о белой обезьяне», точно зная, что это должно привести к противоположным результатам: «Под словом нос на всем протяжении этой длинной главы о носах и во всех других частях моего произведения, где встречается слово нос, - под этим, торжественно всем объявляв, я разумел нос и только нос».
Вытесненная в запретную область эротика мстит за себя, вырываясь наружу и вовлекая в хоровод двусмысленностей самые нейтральные вещи и предметы: «...несколько столетий назад носы подвергались в большинстве стран Европы той же участи, какая теперь встретила в Наваррском королевстве усы. Зло, правда, не получило тогда дальнейшего распространения, - но разве кровати, подушки, ночные колпаки и ночные горшки не стоят с тех пор всегда на краю гибели? Разве штаны, прорехи в юбках, ручки насосов, втулки и краны не подвергаются до сих пор опасности со стороны таких же ассоциаций...».
Английский литературовед Рональд Паульсон считает, что стернианская двусмысленность, недоверие к возможностям слова есть усилие передать иррациональный, невыразимый словесно смысл. Такая точка зрения имеет под собой некоторые основания и все же представляется нам излишне осерьезнивающей.
Не случайно именно Франция, родина Рабле, стала для Стерна страной непристойной двусмысленности. Но исторические и социальные сдвиги сделали такое воссоздание невозможным. Чуждый поверхностного эпигонства, Стерн воплотил в своем романе черты исторической эпохи, в которой он жил. Именно в этом суть глубокого отличия его эротики от эротики раблезианской.
Сказанному можно дать отчасти биографическое объяснение.
Самыми светлыми страницами скучной и бедной событиями биографии Стерна были его поездки в усадьбу к соседу и другу Джону Холлу-Стивенсону. В этой усадьбе, названной ее хозяином «Сумасшедшим замком», группа молодых аристократов развлекала себя невероятными историями, ценившимися по степени их бессмысленности и неправдоподобия, и эксцентрическими выходками. «Безумцы», собиравшиеся у Холла-Стивенсона, моделировали себя по миру Рабле. Они называли себя пантатрюэлистами, давали друг другу прозвища по именам героев «Гаргантюа и Пантагрюэля», а больше половины их, включая самого хозяина «Сумасшедшего замка» входило в другой аналогичный кружок, называвшийся «кружком раблезианских монахов», известный еще более буйными эскападами.
В этих забавах заложен глубоко драматический смысл. Молодые чудаки, противопоставившие свою собственную свободу и веселость скуке и серьезности общественной жизни, ориентировались на писателя, творчество которого вытекало из культуры всенародной, всеобщей, поглотившей и растворившей в себе общественные и мировые бури.
Эта ситуация в значительной мере отразилась в «Тристраме Шенди». Роман Стерна развернут в гуманистическую стихию Возрождения, это роман анахронистический, но одновременно он глубоко пронизан социальной, философской, идеологической и художественной проблематикой своего времени. Такое сочетание и сделало во многом «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» самым новаторским произведением своей эпохи, новизна которого оказалась непонятной не только современником писателя, но и их ближайшим потомкам.
Л-ра: Вопросы жанра и стиля в русской и зарубежной литературе. – Москва, 1979. – С. 59-68.
Произведения
- Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена
- Письма Лоренса Стерна
- Сентиментальное путешествие по Франции и Италии
Критика
- К проблеме авторской позиции в романе Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»
- Концепция каузальности в художественной структуре «Тристрама Шенди» Лоренса Стерна (к постановке проблемы)
- Формы и приёмы создания метатекстового уровня в «Тристраме Шенди» Лоренса Стерна
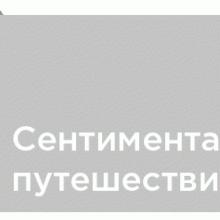
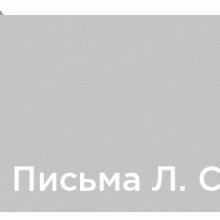
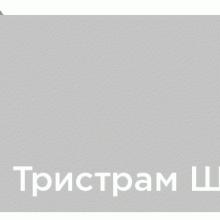











Поділитися