Экфрасис как метатекст в прозе И. А. Бунина 1920-х годов
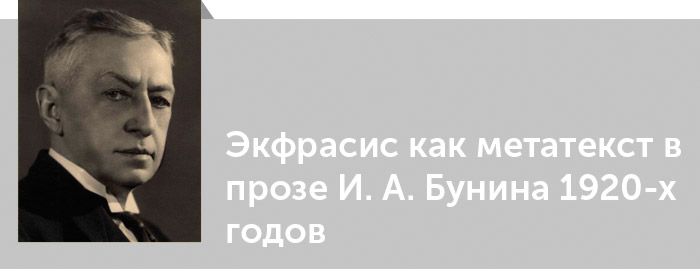
УДК 821.161.1–3 Бунин.09
С. В. Ломакович, И. И. Московкина
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Экфрасис как метатекст в прозе И. А. Бунина 1920-х годов (к 80-летию присуждения Нобелевской премии)
Ломакович С. В., Московкіна І. І. Екфрасис як метатекст у прозі І. О. Буніна 1920-х років (до 80-річчя присудження Нобелівської премії).
У статті запропоновано аналіз інтермедіальності поетики новели І. О. Буніна «Божевільний митець». Особливої уваги приділено специфіці та функціям екфрасису, який відіграє концептуальну роль у новелі. Його функціонування в якості метатексту виразно експлікує ставлення письменника до модерністського мистецтва початку ХХ століття.
Ключові слова: поетика, екфрасис, інтертекст, інтермедіальність, метатекст, модернізм.
Ломакович С. В., Московкина И. И. Экфрасис как метатекст в прозе И. А. Бунина 1920-х годов (к 80-летию присуждения Нобелевской премии).
В статье предложен анализ интермедиальности поэтики новеллы И. А. Бунина «Безумный художник». Особое внимание уделено специфике и функциям экфрасиса, который отыгрывает важную концептуальную роль в новелле. Его функционирование в качестве метатекста отчетливо эксплицирует отношение писателя к модернистскому искусству начала ХХ столетия.
Ключевые слова: поэтика, экфрасис, интертекст, интермедиальность, метатекст, модернизм.
Lomakovich S. V., Moskovkina I. I. Ecphrasis as metatext in I. A. Bunin’s prose of 1920 (the 80th anniversary of the awarding of the Nobel Prize).
The article presents an analysis of intermedial poetics of I. A. Bunin’s novelette “Crazy artist”. Particular attention is paid to the specifics of features and functions of ecphrasis that plays a conceptual role in the story. Its function as a metatext clearly reflects the attitude of the writer to the modernistic art of the early twentieth century.
Keywords: poetics, ecphrasis, intertext, intermediality, metatext, modernism.
Мастерство Бунина, отмеченное еще в начале ХХ века двумя Пушкинскими премиями (1903 и 1909), а в 1933 году и Нобелевской премией, сегодня общепризнано. Благодаря работам Б. В. Аверина [1], В. Я. Гречнева [5], В. В. Заманской [6], В. А. Келдыша [8], Л. А. Колобаевой [9], В. Я. Линкова [11], Ю. В. Мальцева [12], О. В. Сливицкой [15], М. С. Штерн [18] и других современных исследователей, охарактеризованы биографические, историко-культурные, мировоззренческие и эстетические истоки и аспекты его творчества, специфика его мироощущения, жанровой системы, поэтики и творческого метода. Этапными, обобщающими итоги осмысления творческого наследия Бунина в конце ХХ столетия, стали — книга «Иван Бунин: pro et contra» [7] и глава в фундаментальном труде ученых ИМЛИ «Русская литература рубежа веков (1890-е — начало 1920-х годов)», написанная Н. С. Бройтманом и Д. М. Магомедовой [3]. При этом в процессе определения места писателя в литературном процессе ХХ века вектор все больше смещался от реализма к неореализму и модернизму. Однако и сегодня оно все еще видится по-разному.
В последнее десятилетие представления о степени новаторства Бунина и его вкладе в развитие литературы обогащаются и уточняются, благодаря новым ракурсам рассмотрения его произведений, в том числе — интермедиальных аспектов поэтики. Чаще всего внимание ученых привлекает специфика и функции экфрасиса в его новеллистике, что, видимо, связано с продуктивной разработкой в последние годы теории экфрасиса [14]. Однако не все истолкования обнаруженных особенностей интермедиальности поэтики Бунина представляются бесспорными. В частности, речь идет о функциях экфрасиса в новелле «Безумный художник» (1921) и ее интерпретации в контексте социально-исторических и эстетических реалий первой трети ХХ века.
Так, в диссертационном исследовании А. Ю. Криворучко «Функции экфрасиса в русской прозе 1920-х годов» [10] экфрасис в «Безумном художнике» рассматривается преимущественно с точки зрения его использования в художественном произведении для оценки социально-исторических изменений, потрясших страну в начале ХХ века. По мнению исследовательницы, в этом, одном из первых, созданных в эмиграции, бунинских произведений, в отличие от более поздних, тема России еще не приобрела характера «России воспоминаний»: «В "Безумном художнике" в полемически заостренной форме нашло свое выражение резкое неприятие автором происшедшего в 1917 году перелома в ходе российской истории и, в частности, осуждение им роли творческой интеллигенции в революции, провозглашение ее ответственности за случившееся. Создавая образ своего героя-художника, Бунин сталкивает две противоречащих друг другу и равно неприемлемых для него тенденции… с одной стороны, преклонение перед Западом …, а с другой, идеализация России и русского народа … его особой миссии. В центре внимания писателя оказывается окончившаяся неудачей встреча художника, воспринявшего западноевропейские идеалы и задумавшего перенести их на родину, с реальной Россией» [10:6].
Такая интерпретация представляется излишне прямолинейно-социологичной и к тому же не точной — не учитывающей художественные реалии произведения. Ведь события в новелле происходят в 1916 году в дореволюционной России, а художник потрясен кошмаром Первой мировой войны. Кроме того, как будет показано ниже, «Россия воспоминаний», предстающая в так называемых «обратных экфрасисах», уже и здесь играет важную структурообразующую и концептуальную роль.
М. С. Байцак в диссертации «Поэтика описаний в прозе И. А. Бунина: живопись посредством слова» [2], акцентирует внимание на другой функции экфрасиса в «Безумном художнике» — на характеристике творца через его творение. С точки зрения исследовательницы, «ряд экфрасисов позволяет соотнести замысел творца и его исполнение. Два развернутых условных экфрасиса, в которых присутствуют мотивы полотен самых разных авторов — от Рафаэля, Микеланджело, И. Босха до немецких экспрессионистов — создают специфический сюжет, в котором воплощается основная коллизия произведения» [2:11]. При этом, «по-новому раскрывается традиционная романтическая концепция творчества как безумия, проблема несоответствия между творческим замыслом и его художественным воплощением» [2:11].
Такая трактовка роли экфрасиса и новеллы в целом, на наш взгляд, позволил исследовательнице ближе подойти к осмыслению художественно-поэтического и эстетического аспектов произведения, однако тоже нуждается в существенных уточнениях — особенно того, что касается «романтической концепции творчества». Ведь от истолкования функций и сути экфрасиса в этой, репрезентативной для бунинской прозы 1920-х годов, новелле зависит корректная интерпретация не только «Безумного художника», но и эстетической позиции Бунина.
Ученые уже отмечали символистский дискурс в таких новеллах Бунина 1910-х годов, как «Братья» (1914), «Господин из СанФранциско» (1915), «Сны Чанга» (1916), с их откровенно символико-неомифологической поэтикой и философской проблематикой. В то же время, такая новелла, как «Архивное дело» (1914) обнаружила типологическое сходство с постсимволистской прозой Л. Андреева 1910-х годов, иронически ассимилировавшей художественные принципы символизма и экспрессионизма [13]. На сопоставление с произведениями Л. Андреева напрашивается и новелла Бунина «Безумный художник». Это, как и «Архивное дело», «святочный рассказ», в котором тоже парадоксально трансформированы жанровые каноны. В соответствии с ними события приурочены к кануну Рождества. Суть происходящего тоже вроде бы вполне соответствует моменту: художник на глазах обитателей провинциальной гостиницы (и читателей), завершая «дело всей его жизни» [4:198], пишет полотно, которое уподобляется им Благой вести. Поведение художника соответствует возложенной им на себя миссии: он величав и ощущает себя не то пророком, не то самим творцом нового мира.
Задуманная им картина под названием «Рождение нового человека!» была призвана «произвести неслыханное впечатление» [4:200]. Она должна была быть залитой светом и запечатлеть рождение Христа, предвещающее гибель старого, кровавого мира: «Я должен написать Вифлеемскую пещеру, написать Рождество и залить всю картину, — и эти ясли, и младенца, и Мадонну, и льва, и ягненка, возлежащих рядом, — именно рядом! — таким ликованием ангелов, таким светом, чтобы это было воистину рождением нового человека…» [4:200]. Обращает на себя внимание тот факт, что экфрасис воображаемого героем полотна помимо общеизвестного сюжета, вводящего в новеллу Бунина широкий интертекст европейского искусства, начиная с настенной живописи римских катакомб и древних византийских мозаик [17:440–442], включает и новые, субъективно-личные, интимные детали. Художник мимоходом замечает, что вопреки канону местом рождения Нового человека будет Испания — страна его счастливого первого брачного путешествия: «Вдали — синие горы, на холмах цветущие деревья, в раскрытых небесах…» [4:200].
Во время написания картины перед «умственным взором» художника возникает еще одно видение, которое он попытался передать на своем холсте. Экфрасис этого варианта «Рождения нового человека!» интертекстуально связан с еще одним евангельским сюжетом, неоднократно и разнообразно воссозданным на полотнах мастеров Средневековья, Возрождения и таких выдающихся современников Бунина, как Врубель (искусствоведы дали ему условное название «Дева Мария с Младенцем и другими фигурами» [17:198–202]). Художнику «грезились» небеса, «преисполненные вечного света, млеющие эдемской лазурью», «светозарные лики и крылья несметных ликующих серафимов», «Бог-отец, грозный и радостный», «дева неизреченной прелести, с очами, полными блаженства счастливой матери, стоя на облачных клубах… являла миру, высоко поднимала на божественных руках своих младенца, блистающего, как солнце», «дикий, могучий Иоанн, препоясанный звериной шкурою, на коленях стоял возле ее ног» [4:204].
Однако вместо прекрасного видения, которого «жаждало его сердце» [4:204], на полотне художника новеллистически-неожиданно и вопреки жанровым канонам «святочного» happy end, запечатлелось нечто апокалипсическо-экспрессионистское: «Дикое, черносинее небо до зенита пылало пожарами, кровавым пламенем дымных, разрушающихся храмов, дворцов и жилищ. Дыбы, эшафоты и виселицы с удавленниками чернели на огненном фоне. Над всей картиной, над всем этим морем огня и дыма, величаво, демонически высился огромный крест с распятым на нем, окровавленным страдальцем… Низ же картины являл беспорядочную груду мертвых — и свалку, грызню, драку живых, смешение нагих тел, рук и лиц. И лица эти, ощеренные, клыкастые, с глазами, выкатившимися из орбит, были столь мерзостны и грубы, столь искажены ненавистью, злобой, сладострастием братоубийства, что их можно было признать скорее за лица скотов, зверей, дьяволов, но никак не за человеческие» [4:205].
На картине помимо воли художника изобразилось то, что оказалось сильнее его грез, что на самом деле покорило его воображение, потрясло его сознание и все его существо. Хаос и дисгармония, царившие в обезумевшем, объятом войной мире овладели художником. Из «проговорок» героя, пунктиром проходящих через все повествование, читатель узнает историю жизни художника в период вынашивания замысла картины. Готовясь к провозглашению Благой вести о приближении новой Эры Света, Любви, Красоты, Добра, художник вместе с беременной женой предпринимает путешествие в Европу по морю. Не выдержав мытарств и ужасов войны, его жена и новорожденный ребенок гибнут на чужбине. Поэтому создание картины помимо ее всемирного значения сопряжено для художника со страстной верой в возможность силой своего гения и искусства воскресить умерших: «Мадонну я напишу с той, чье имя отныне священно. Я воскрешу ее, убитую злой силой вместе с новой жизнью, выношенной ею под сердцем!» [4:201].
В итоге благие намерения художника оборачиваются своей противоположностью не только в жизни, но и в творчестве. Приехав специально для завершения «дела жизни», он забыл кисть, не имеет ни холста, ни красок, просыпает естественный свет и вынужден писать ночью при искусственном, зловещем освещении. Счастливую Мадонну он пытается писать, глядя на фотографию жены в гробу, а новорожденного — нового, счастливого Человека — с умершего младенца. Не удивительно, что вместо Царства Света вырисовывается Царство Зверя — «дьявольские наваждения жизни» [4:204] полностью завладели его воображением и потребовали своего воплощения. Желая пропеть Творцу Осанну («Осанна! Благославен грядый во имя господне!» [4:204]»), он прокричал ему проклятие (ср.: «Жизнь Василия Фивейского» Л. Андреева).
Заметим, что экфрасис обоих воображаемых художником полотен, видимо, интертекстуально перекликается и с аналогичными описаниями в повести Гоголя «Портрет», где писатель размышлял о природе вдохновения (божественной и демонической) и его творческих результатах, а также о гениальных полотнах, к созданию которых художник приуготовляется всю жизнь [16]. Стремясь запечатлеть рождение богочеловека и нового человека, наступление царствия Божьего на земле, бунинский безумный художник провозгласил мученическую смерть Сына Божьего на огромном кресте, который «демонически высился» над толпой существ (новым человечеством) с лицами «скотов, зверей, дьяволов» [4:204], т.е. смерть в человеке всего человеческого и божественного (ср.: «В толпе» Ф. Сологуба). Страшно и то, что ради своего творения художник пожертвовал сыном и женой (что тоже вызывало ассоциации с Творцом). Поэтому он вполне должен разделить с Богом ответственность за миропорядок. Сквозь частный случай из жизни художника «просвечивало» неомифологическое повествование об онтологических основах сотворенного мироздания и человека.
Таким образом, прежде всего, Бунин художественно воссоздал, исследовал и объяснил тип художника-экспрессиониста и истоки его творчества. Благодаря же интертексту и параллели художник-творец и Бог-Творец писатель, подобно символистам, поразмышлял об онтологических основах бытия человека. Но при этом Бунин не уподобился ни экспрессионисту, ни символисту-неомифологу. Он сумел сохранить дистанцию между собой и безумным героем, на которого посмотрел с точки зрения здравого смысла и естественного человеческого восприятия, отраженной в названии, реакции смышленого лакея и иронии повествователя, постоянно подчеркивающего нелепость облика и поведения героя. Ирония и здесь спасла Бунина от соблазна провозгласить новую Весть и Истину в последней инстанции.
«Безумный художник» — это новелла«матрешка». Блестяще выполненный экфрасис вымышленного писателем, но воссоздающего характерные черты и «общие места» экспрессионистического полотна (к тому же типологически сходного с картиной мира, запечатленной в «Стене», «Красном смехе» и других символико-экспрессионистских новеллах и повестях Л. Андреева, интертекстуально входящих в новеллу Бунина), вписан в рамку неомифологической символистской новеллы. Последняя же, вписана в рамку повествования от лица повествователя, создавшего ироническую дистанцию между собой, «новым мифом» и героем-безумцем.
Эта дистанция проясняется и постоянно поддерживается также за счет включения в новеллу импрессионистически выписанных пейзажных зарисовок и интерьеров, запечатлевших восприятие повествователем неброской, естественной красоты заснеженного предрождественского русского городка и человеческого жилья на протяжении тех суток, во время которых безумный художник завершает свою Благую весть. Новелла начинается утренним пейзажем: «Золотилось солнце на востоке, за туманной синью далеких лесов, за белой снежной низменностью, на которую глядел с невысокого горного берега древний русский город. Был канун Рождества, бодрое утро с легким морозцем и инеем» [4:197]. Затем возникает интерьер гостиничного номера: «В комнатах было тепло, уютно и спокойно, янтарно от солнца, смягченного инеем на нижних стеклах» [4:197]. По ходу развития Бунин «рисует» урбанистический пейзаж, передающий нюансы полуденного света и цвета: «На улице совсем ободнялось, стало совсем солнечно. Иней на телеграфных проволоках рисовался по голубому небу нежно и сизо и уже крошился, осыпался. На площади толпился целый лес густых темнозеленых елок…» [4:197] и т.д.
В этих описаниях обнаруживается «живописность», интермедиальность бунинской прозы — перенесение в литературу приемов изобразительного искусства, которые придают словесному образу картинность, мизансценичность, красочность. Бунинская новелла включает так называемые «обратные экфрасисы» — описания, которые вызывают у читателя ассоциации с мотивами, образами и настроением различных живописных полотен. Несмотря на критику современного искусства, писатель прекрасно его знал (и литературу, и живопись) и владел его приемами. Как показали исследователи, степень насыщенности его произведений «цитатами» из живописных полотен современных художников очень высока. Среди наиболее частых источников «цитат» справедливо называют модернистские полотна Ф. Малявина, А. Рылова, Л. Бакста, В. Борисова-Мусатова. По наблюдениям М. С. Байцак [2:9–10], Бунин, оперируя «топосами», создавал своего рода риторику «общих мест» русской и европейской живописи и насыщал ею повествование. Цитация подобного рода позволяла автору создавать эстетизированный образ реальности: мира как красоты, что и было для него одной из основных творческой установок.
Таким образом, хотя Бунин вслед за Андреевым, Сологубом и многими другими модернистами рубежа ХIХ и ХХ веков вынужден был констатировать усиление власти хаотически-разрушительных сил над миром и человеком, его мироощущение и миропонимание не сводилось лишь к этому. Бунину была дарована способность видеть, переживать и воссоздавать гармонию и красоту мироздания. О биполярности его художественного мира убедительно сказано О. В. Сливицкой [15]. Явная или скрытая экфрастичность описаний во многом определяла специфику изобразительности прозы Бунина, и, судя по всему, о ней можно говорить как об отличительной и важной черте его поэтики. Учитывая, ассимилируя и, одновременно, преодолевая опыт не только реалистов, но и модернистов (символистов, экспрессионистов, импрессионистов), Бунин находил новые, оригинальные, художественные способы исследования глубинных первооснов жизни человека и человечества. Именно они, а не только и не столько конкретно-исторические коллизии предреволюционной или послереволюционной России, были предметом историософского и художественного осмысления в прозе Нобелевского лауреата — русского писателя, чьи новации обогатили мировую литературу.
Литература
1. Аверин Б. В. Жизнь Бунина и жизнь Арсеньева : Поэтика воспоминания / Б. В. Аверин // И. А. Бунин: Pro et contra: Личность и творчество Ивана Бунина в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология / Сост. Б. Аверин (совместно с Д. Риникером и К. В. Степановым). — СПб. : РХГИ, 2001 — С. 651—678.
2. Байцак М. С. Поэтика описания в прозе И. А. Бунина : живопись посредством слова : Автореферат дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Байцак Марина Сергеевна. — Омск, 2009. — 17 с.
3. Бройтман С. Н., Магомедова Д. М. Иван Бунин // Русская литература рубежа веков (1890-е — начало 1920-х годов). — Кн. 1. — М., 2000. — С. 540—585.
4. Бунин И. А. Собр. соч. : В 6-ти т. — Т. 4. Произведения 1914—1931 / Редкол.: Ю. Бондарев, О. Михайлов, В. Рынкевич; статья-послеслов. и коммент. А. Саакянц. — М. : Худож. лит., 1988. — 703 с.
5. Гречнев В. Я. Иван Бунин // Гречнев В. Я. О прозе и поэзии ХIХ — ХХ вв.: Л. Толстой, А. Чехов, И. Бунин, Л. Андреев, М. Горький, Ф. Тютчев, Г. Иванов, А. Твардовский / В. Гречнев. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Соларт, 2009. — С. 99—184.
6. Заманская В. В. И. Бунин: Между мигом и вечностью // Заманская В. В. Экзистенциальная традиция в русской литературе ХХ века. Диалоги на границах столетий: Учебное пособие / В. В. Заманская. — М. : Флинта : Наука, 2002. — С. 207—229.
7. И. А. Бунин: Pro et contra: Личность и творчество Ивана Бунина в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология / Сост. Б. Аверин (совместно с Д. Риникером и К. В. Степановым). — СПб. : РХГИ, 2001. — 1016 с. — (Русский путь).
8. Келдыш В. А. И. Бунин // Келдыш В. А. О «серебряном веке» русской литературы : Общие закономерности. Проблемы прозы / В. А. Келдыш. — М. : ИМЛИ РАН, 2010. — С. 205—249.
9. Колобаева Л. А. О споре с Ф. М. Достоевским: категории зла, совести, «преступления и наказания» в прозе И. А. Бунина / Л. А. Колобаева // Русская литература конца ХIХ — начала ХХ века в зеркале современной науки: В честь В. А. Келдыша : Исследования и публикации. — М. : ИМЛИ РАН, 2008. — С. 29—36.
10. Криворучко А. Ю. Функции экфрасиса в русской прозе 1920-х годов : Автореферат дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Криворучко Анна Юрьевна. — Тверь, 2009. — 18 с.
11. Линков В. Я. Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. Бунина / В. Я. Линков. — М. : Изд-во МГУ, 1989. — 174 с.
12. Мальцев Ю. Иван Бунин: 1870–1953 / Юрий Мальцев. — М. : Посев, 1994. — 432 с.
13. Московкина И. И. Художественный мир И. А. Бунина в контексте русской прозы конца ХІХ — начала ХХ века / И. И. Московкина // Творческое наследие И. А. Бунина и мировой литературный процесс : Материалы международной научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения И. А. Бунина. — Орел: ОГПУ. — С. 88—90.
14. «Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте : Сб. ст. / Сост. и науч. ред. Д. В. Токарева. — М. : Новое литературное обозрение, 2013. — 572 с.
15. Сливицкая О.В. «Повышенное чувство жизни» : мир Ивана Бунина / О. В. Сливицкая. — М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 2004. — 270 с.
16. Токарев Д. В. О «невыразимо выразимом» : (Вместо предисловия) / Дмитрий Токарев // «Невыразимо выразимое» : экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте : Сб. ст. / Сост. и науч. ред. Д. В. Токарева. — М. : Новое литературное обозрение, 2013. — С. 5–25.
17. Холл Джеймс. Словарь сюжетов и символов в искусстве. — М., 1997.
18. Штерн М. С. В поисках утраченной гармонии: Проза И. А. Бунина 1930—1940-х годов / М. С. Штерн. — Омск : Изд.-во Омск. гос. пед. ун-та, 1997. — 40 с.














Поділитися