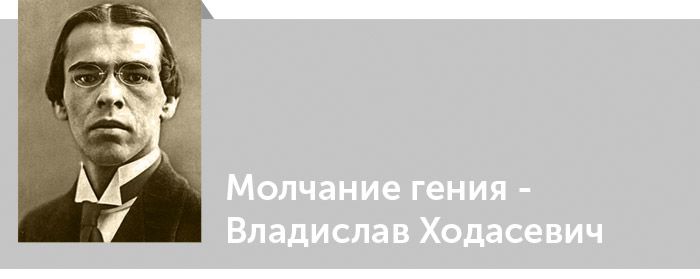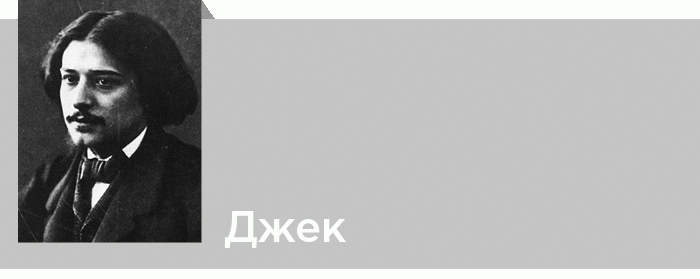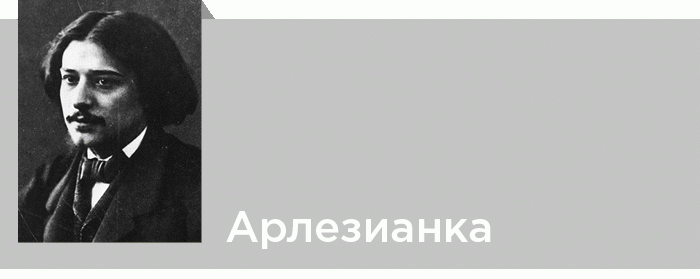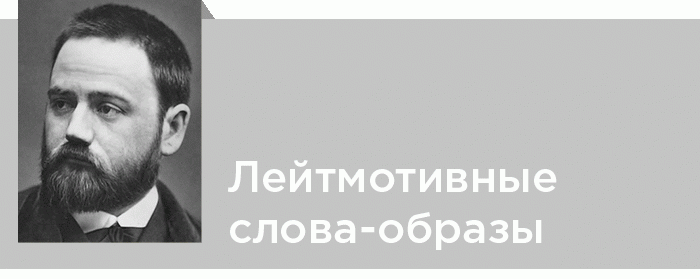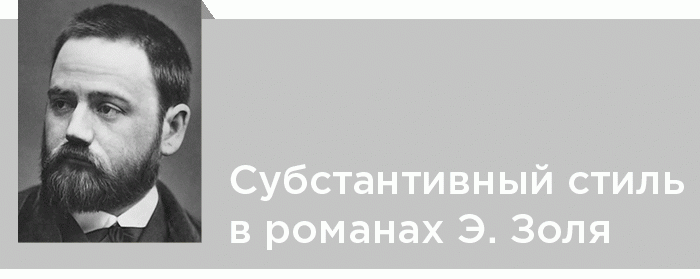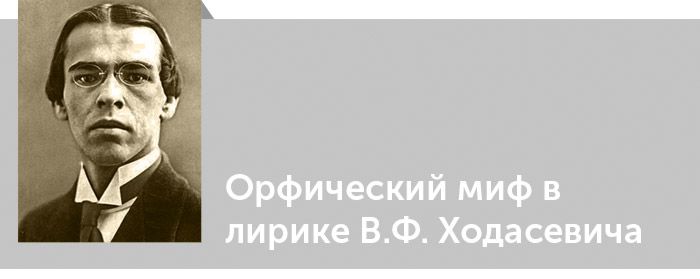Эмиль Золя. Западня

(Отрывок)
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Ругон-Маккары» должны составить около двадцати романов. Общий план я разработал еще в 1869 году и следую ему неуклонно. «Западня» появилась в установленный мною срок; я написал ее, как напишу и остальные тома, ни на волос не отклоняясь от намеченной линии. В этом моя сила. У меня есть цель, и я к ней иду.
Когда «Западня» была напечатана в газете, на нее напали с неслыханной грубостью, ее поносили, обвиняли во всех смертных грехах. Стоит ли объяснять здесь, в нескольких словах, мой литературный замысел? Я хотел показать неизбежное вырождение рабочей семьи, живущей в отравленной среде наших предместий. Пьянство и безделье ведут к распаду семьи, к грязному распутству, к постепенному забвению всех человеческих чувств, а в конце концов — к позору и смерти. Это просто мораль, воплощенная в жизни.
«Западня», несомненно, самая нравственная из моих книг. Мне уже не раз приходилось касаться куда более отталкивающих язв. Но всех ужаснул стиль этой книги: возмущение вызвал только язык. Преступление мое состояло в том, что из профессионального интереса я собрал и отлил в тщательно продуманной форме язык народа. Итак, форма этой книги — вот в чем мое главное преступление! Однако существуют же словари народного языка, который изучают лингвисты, наслаждаясь его сочностью, самобытностью и яркой образностью. Для пытливых исследователей это сущий клад. И все же никто не понял, что я задался целью проделать чисто филологическую работу, которую считаю чрезвычайно интересной и с исторической и с социальной точки зрения.
Но я не собираюсь защищаться. Мое произведение сделает это за меня. Это произведение — сама правда, это первый роман о пароде, в котором нет лжи и от которого пахнет народом. Из него не следует, однако, заключать, что весь народ плох: ведь мои персонажи вовсе не плохие люди, они только невежественны, искалечены тяжким трудом и нищетой — средой, в которой живут. Все дело в том, что мои романы следует сначала прочесть, понять и ясно представить себе их единство, а не выносить заранее нелепых и злостных суждений, какие распространяют обо мне и о моих книгах. Если бы люди знали, как смеются мои друзья над чудовищными небылицами, которые рассказывают обо мне на потеху толпе! Если б они знали, что свирепый романист, страшный кровопийца на самом деле просто добропорядочный буржуа, человек науки и искусства, что он скромно живет в своем углу и его единственное желание — оставить такую широкую и правдивую картину жизни, какую он только в силах создать! Я не опровергаю глупых басен, я работаю и полагаюсь на время и на справедливое суждение публики, которая в конце концов увидит мое истинное лицо, отбросив груду нелепейших выдумок.
Эмиль Золя
Париж, 1 января 1877 года
I
Жервеза прождала Лантье до двух часов ночи. Озябнув в легкой кофточке у открытого окна, истомленная, вся в слезах, она бросилась ничком поперек кровати и забылась тревожным сном. Вот уже неделю, выходя из «Двухголового теленка», где они обедали, Лантье сразу отсылал ее с детьми спать, а сам где-то шатался до поздней ночи, уверяя, будто бегает в поисках работы. Сегодня вечером, когда Жервеза подстерегала его у окна, ей показалось, что он вошел в танцевальный зал «Большая галерея», все десять окон которого ярко пылали, освещая, словно пожаром, темный людской поток, струившийся по внешним бульварам; а позади Лантье она заметила маленькую полировщицу Адель, обедавшую с ними в одном ресторане; она шла в пяти-шести шагах от Лантье, неловко свесив руки, как будто только сейчас держала его под руку, а теперь отпустила, чтобы не проходить вместе с ним под яркими фонарями у входа.
Жервеза проснулась около пяти утра совсем разбитая, закоченевшая и горько разрыдалась. Лантье все еще не вернулся. Впервые он не ночевал дома. Она села на краешек кровати, под обрывком полинялого ситцевого полога, свисавшего с планки, прикрепленной к потолку бечевкой. Затуманенными от слез глазами она медленно обвела убогую меблированную комнату: ореховый комод с дырой вместо ящика, три соломенных стула и маленький засаленный столик с забытым на нем щербатым кувшином. Для детей сюда вдвинули железную кровать, она загораживала комод и занимала две трети комнаты. Раскрытый сундук Жервезы и Лантье, засунутый в угол, выставлял напоказ свое пустое чрево; на дне его, под грязными сорочками и носками, валялась старая мужская шляпа. На стульях, стоявших вдоль стены, висели дырявая шаль и заляпанные грязью брюки — последние обноски, не соблазнившие даже старьевщика. На камине между двумя непарными цинковыми подсвечниками лежала пачка нежно-розовых квитанций из ломбарда. Жервеза и Лантье занимали лучшую комнату в доме: во втором этаже, окнами на бульвар.
Дети мирно спали рядом, на одной подушке. Восьмилетний Клод ровно дышал, раскинув руки, а четырехлетний Этьен улыбался во сне, обхватив ручонкой брата за шею. Когда заплаканные глаза матери остановились на детях, она снова разрыдалась, прижимая к губам платок, чтобы заглушить громкие всхлипывания. Затем она вскочила босиком, позабыв о свалившихся с ног стоптанных туфлях, села у окна и снова принялась ждать, не спуская глаз с уходящей вдаль улицы.
Гостиница помещалась на бульваре Ля Шапель, налево от заставы Пуассоньер, в ветхом трехэтажном доме, до половины окрашенном в красно-бурый цвет, с прогнившими от дождя ставнями. Над фонарем с растрескавшимися стеклами, между двух окон, с трудом можно было прочитать надпись: «Гостиница Добро пожаловать, владелец Марсулье», выведенную большими желтыми буквами на облупившейся от сырости стене. Фонарь мешал Жервезе, и она вытягивала шею, прижимая платок к губам. Она смотрела направо, в сторону бульвара Рошешуар, где перед бойней толпились мясники в окровавленных передниках; порой свежий ветер обдавал ее зловонием, тошнотворным запахом битой скотины. Она смотрела налево, вглядываясь в протянувшуюся длинной лентой улицу, которая доходила до ее дома и тут заканчивалась бесформенным белым зданием — недостроенной больницей Ларибуазьер. Медленно обводила она взглядом городскую стену, за которой по ночам слышались крики и мольбы о помощи. Она упорно всматривалась во все укромные уголки, в темные от сырости, загаженные закоулки, боясь увидеть там тело Лантье со вспоротым животом. Перед ее глазами тянулась нескончаемая стена, окружавшая город унылой серой полосой, а над ней она видела в небе яркий отсвет, наполнявший воздух солнечной пылью, и слышала гул пробуждавшегося Парижа. Но Жервеза все возвращалась взглядом к заставе Пуассоньер и, вытянув шею, следила за непрерывным потоком людей, лошадей и повозок, который стекал с холмов Монмартра и Ля Шапель и вливался в город между двумя приземистыми таможенными башнями. Оттуда доносился словно топот идущего стада, и стоило толпе остановиться, как она тут же растекалась во все стороны, точно лужа на мостовой; бесконечной вереницей тянулись рабочие с инструментом за спиной и с хлебом под мышкой; и вся эта лавина растворялась, тонула в поглощавшем ее Париже. Порой Жервезе казалось, что она видит в этой сутолоке Лантье, и она еще больше высовывалась из окна, рискуя свалиться вниз; а потом крепче прижимала к губам платок, как будто хотела поглубже загнать свою боль.
За спиной ее послышался веселый молодой голос:
— Что это, госпожа Лантье, хозяина нет дома?
— Как видите, господин Купо, — ответила она, оторвавшись от окна и силясь улыбнуться.
Купо, рабочий-кровельщик, снимал в том же доме на самом верху комнатушку за десять франков. Он нес за спиной свой мешок. Увидев, что ключ торчит в двери, он зашел по-приятельски, не постучав.
— Знаете, — продолжал он, — ведь я теперь работаю здесь рядом, в больнице. А май-то как нынче хорош! Но с утра довольно свежо.
Он поглядел на покрасневшее от слез лицо Жервезы. Заметив нетронутую постель, он тихонько покачал головой; затем подошел к кровати, на которой спокойно спали дети, розовые, как ангелочки, и сказал, понизив голос:
— Полно! Вы думаете, хозяин загулял?.. Не тужите, госпожа Лантье. Ведь он вечно занят политикой. Давеча, когда голосовали за Эжена Сю, парня вроде бы и не плохого, он бродил как помешанный. И нынче, может, просидел всю ночь со своими дружками, ругая стервеца Бонапарта.
— Нет, нет, — прошептала Жервеза с усилием, — тут совсем не то, что вы думаете… Я знаю, где он… Ах, господи, у всякого свое горе!..
Купо подмигнул ей, как бы говоря, что его не проведешь такой выдумкой. Уходя, он предложил сбегать за молоком, если ей не хочется идти самой; она хорошая, славная женщина, сказал он, и, если попадет в беду, может рассчитывать на него. Как только он вышел, Жервеза снова села у окна.
У заставы слышался все тот же топот людского стада, он гулко отдавался в холодном утреннем воздухе. В толпе сразу можно было узнать слесарей по синим рабочим блузам, каменщиков по белым холщовым штанам, маляров по длинным халатам, которые виднелись из-под коротких пальто. Издали толпа сливалась в одно грязное, тусклое пятно, в котором преобладали мутно-синий и густо-серый тона. Порой кто-нибудь из рабочих останавливался, чтобы раскурить потухшую трубку, а остальные все шли и шли мимо, не улыбаясь, не разговаривая, обратив землистые лица к Парижу, который поглощал их одного за другим, и исчезали в зияющей пасти улицы Фобур-Пуассоньер. Однако на обоих углах улицы Пуассонье, у двух кабачков, где уже открывались ставни, многие замедляли шаг; прежде чем войти, они задерживались на тротуаре, бросали хмурые взгляды на город и стояли, вяло опустив руки, не в силах бороться с искушением: им так хотелось прогулять этот денек. Перед стойкой люди сбивались в кучки, пускали бутылку вкруговую, кашляли, плевали, прочищали себе глотку, опрокидывая стаканчик за стаканчиком, и топтались на месте, заполняя все помещение.
Жервеза не сводила глаз с двери кабачка папаши Коломба на левой стороне улицы: ей показалось, что туда вошел Лантье; вдруг ее окликнула толстая простоволосая женщина в переднике, остановившаяся посреди мостовой.
— Что это вы поднялись в такую рань, госпожа Лантье?
Жервеза высунулась из окна.
— А, это вы, госпожа Бош! У меня сегодня куча дел!
— Что и говорить, дела сами собой не делаются!
Они перебрасывались словами из окна на улицу.
Г-жа Бош была привратницей дома, в нижнем этаже которого помещался «Двухголовый теленок». Жервеза не раз поджидала Лантье в ее каморке, не желая сидеть за столом одна среди множества обедающих мужнин. Привратница сообщила ей, что идет недалеко, на улицу Шарбоньер, чтобы застать в постели заказчика, с которого мужу никак не удается получить Долг за починку сюртука. Затем она рассказала, что вчера у них в доме жилец привел к себе женщину и не дал никому спать до трех часов ночи. Г-жа Бош болтала без умолку, а сама вглядывалась в Жервезу с жадным любопытством; казалось, она пришла сюда под окна лишь затем, чтобы кое-что выведать.
— Лантье еще не вставал? — спросила вдруг г-жа Бош.
— Да нет, он спит, — ответила Жервеза, и краска бросилась ей в лицо.
Заметив на глазах у Жервезы слезы, г-жа Бош отошла, видимо, удовлетворенная, обозвав всех мужчин проклятыми лодырями, но тут же вернулась и крикнула:
— Вы, кажется, собирались в прачечную нынче утром? Мне тоже надо постирать, так я займу вам местечко рядом, и мы еще поболтаем! — Потом добавила, как будто почувствовав внезапную жалость: — Да вы бы лучше отошли от окна, бедняжка, этак и простыть недолго… Ведь вы совсем посинели…
Но Жервеза упорно не отходила от окна еще два мучительно долгих часа. В восемь открылись лавки. Поток рабочих блуз, спускавшийся с холмов, постепенно иссяк; только отдельные запоздавшие рабочие, широко шагая, проходили заставу. В кабачках толпились все те же люди, они все так же пили, кашляли и плевали. На улице рабочих сменили работницы: полировщицы, цветочницы, модистки; они спешили вдоль внешних бульваров, поеживаясь в легоньких пальтишках. Идя по три, по четыре в ряд, они оживленно болтали, хихикали и стреляли глазами по сторонам; иногда проходила одинокая работница, худая, бледная и серьезная; она жалась к городской стене, обходя зловонные лужи. За работницами появились служащие; они дули на озябшие пальцы и жевали на ходу дешевые булочки; длинные, тощие молодые люди, с заспанными помятыми лицами, шагали в коротких не по росту сюртуках; высохшие старички, пожелтевшие от бесконечного сидения в конторах, быстро семенили, поглядывая на часы, чтобы с точностью до секунды рассчитать свое время. Наконец на бульварах наступил утренний мир и покой; жившие поблизости рантье вышли погулять на солнышке; нечесаные матери в грязных юбках нянчили грудных младенцев и меняли им пеленки тут же на скамейках; вокруг кишела куча оборванных, сопливых ребятишек, они валялись по земле, толкались, пищали, смеялись и хныкали. Жервеза стала задыхаться, ее охватил ужас, она потеряла всякую надежду, ей казалось, что все кончено, что время остановилось и Лантье никогда больше не вернется. В отчаянии она переводила взгляд со старой бойни, почерневшей от крови и пропитанной зловонием, на новое белое здание больницы, зияющее рядом пустых окон, через которые виднелись голые палаты, где скоро смерть начнет косить свои жертвы. А перед ней, за городской стеной, в пылающем небе все ярче разгоралось ослепительное солнце, заливая светом шумно пробуждающийся Париж.
Жервеза уже не плакала; она сидела на стуле, бессильно уронив руки, как вдруг в комнату спокойно вошел Лантье.
— Это ты! Наконец-то! — воскликнула она и хотела кинуться ему на шею.
— Ну, я. А дальше что? Да брось ты эти глупости! — сказал он и оттолкнул ее.
Со злости он швырнул на комод свою черную фетровую шляпу. Лантье был малый лет двадцати шести, небольшого роста, черноволосый, со смуглым красивым лицом и тонкими усиками, которые он то и дело машинально покручивал. На нем были холщовые рабочие штаны и старый, покрытый пятнами пиджак, слишком узкий в талии; говорил он с резким провансальским акцентом.
Жервеза снова упала на стул и тихим, прерывающимся голосом стала жаловаться:
— Всю ночь я не сомкнула глаз… Я уж думала, тебя зарезали… Где ты был?.. Где провел ночь?.. Боже мой! Если ты еще раз вот так пропадешь, я с ума сойду! Скажи, Огюст, где же ты был?
— Где надо, там и был, черт возьми! — ответил он, передернув плечами. — К восьми часам пошел на улицу Глясьер, к тому приятелю, что собирается открыть шляпную мастерскую. Засиделся у него, ну и решил переночевать… К тому же ты знаешь, я не терплю, чтобы меня выслеживали. Лучше отстань от меня!
Жервеза снова разрыдалась. Громкий разговор, нетерпеливые движения Лантье, который натыкался на стулья, разбудили детей. Они приподнялись в кровати и сели, полуголые, растрепанные, стараясь распутать ручонками свалявшиеся волосы; услышав, что мать плачет, они разревелись, и слезы потекли из их еще заспанных глаз.
— Ну, завели шарманку! — в бешенстве крикнул Лантье. — Коли так, я сейчас же ухожу из дому! И на этот раз не ждите меня назад… Ну как, заткнетесь вы? Да или нет? Тогда прощайте! Пойду туда, откуда пришел.
И он схватил с комода свою шляпу. Тут Жервеза вскочила.
— Не уходи! Не уходи! — пролепетала она.
Приласкав детей, она осушила их слезы. Она поцеловала их головки и снова уложила, приговаривая нежные слова. Малыши сразу успокоились и, лежа на одной подушке, принялись щипаться, громко смеясь. Усталый отец, помятый и осунувшийся после бессонной ночи, бросился на кровать, не потрудившись даже скинуть башмаки. Но он не уснул и лежал, оглядывая комнату широко открытыми глазами.
— Ну и чистота у тебя, нечего сказать! — пробормотал он. Потом пристально посмотрел на Жервезу и злобно добавил: — Ты что же, решила не мыться?
Жервезе исполнилось всего двадцать два года. Она была высока и немного худощава, с тонкими чертами лица, уже поблекшего от тяжелой жизни. Нечесаная, в стоптанных туфлях, она дрожала в своей несвежей, засаленной белой кофточке и, казалось, постарела на десять лет за эти страшные часы, проведенные в тревоге и слезах. Как ни была она подавлена, напугана, но слова Лантье задели ее.
— Как тебе не совестно, — сказала она запальчиво. — Ты же знаешь, я делаю все, что могу. Не моя вина, если мы очутились в этой дыре… Попробовал бы ты сам повертеться с двумя детьми в одной комнате, где даже печки нет, — воды и то нагреть не на чем… Когда мы приехали в Париж, надо было не проедать все деньги, а сперва устроиться, как ты обещал.
— Скажи на милость! — закричал он. — Не ты ли проела эти деньги вместе со мной? Так нечего теперь меня попрекать!
Но она продолжала, будто не слыша его:
— И все же, если не падать духом, мы еще можем выпутаться… Вчера вечером я говорила с госпожой Фоконье, хозяйкой прачечной на Новой улице; с понедельника она возьмет меня на работу. Если ты устроишься у своего приятеля с улицы Глясьер, не пройдет и полугода, как мы станем на ноги: купим кое-что из вещей, снимем какую-нибудь каморку, и у нас будет свой угол… Надо только работать, работать не покладая рук…
Лантье со скучающим видом отвернулся к стене. Тогда Жервеза вспылила:
— Да, я знаю, работать ты не охотник! Уж больно много о себе воображаешь: тебе бы наряжаться, как барину, да разгуливать с расфуфыренными девками! Вот чего тебе надо! С тех пор как ты заставил меня заложить все платья, я уж недостаточно хороша для тебя… Слушай, Огюст, я не хотела тебе говорить, я бы еще повременила, но я знаю, где ты провел ночь: я видела, как ты входил в «Большую галерею» с этой потаскухой Аделью. Вот уж выбрал, не прогадал! Хороша чистюля! Недаром она корчит из себя принцессу — с ней переспал весь ресторан!
Одним прыжком Лантье соскочил с кровати. Глаза его потемнели и горели, как угли, на побелевшем лице. Этот маленький человек мгновенно вскипал от бешенства.
— Да, да, весь ресторан! — повторила Жервеза. — Госпожа Бош скоро выгонит их из дома, Адель и эту тощую кобылу — ее сестру, потому что на лестнице у них вечно толкутся мужчины!
Лантье занес было кулак, но подавил в себе искушение избить Жервезу, он только схватил ее за руки, грубо тряхнул и бросил на детскую кровать; дети опять заревели. А он снова улегся и злобно пробормотал, как будто после долгих колебаний вдруг принял какое-то решение:
— Ты и не знаешь, что наделала, Жервеза. Ты еще поплатишься за это, вот увидишь.
Несколько минут дети не могли успокоиться. Мать, склонившись над кроватью, обнимала их и безотчетно повторяла одну и ту же фразу:
— Ах, если б не вы, мои бедные крошки!.. Если б вас не было!.. Если б вас не было!..
Лантье спокойно вытянулся на кровати, уставившись в обрывок полинявшего полога, и больше не слушал ее, что-то обдумывая. Так пролежал он около часу, не двигаясь, превозмогая сон, хотя от усталости у него слипались глаза. Жервеза уже кончала уборку, когда он повернулся к ней, опираясь на локоть, с выражением жестокой решимости. Она подняла и одела детей и застелила их кровать. Лантье смотрел, как она подметает пол и вытирает пыль; но комната оставалась такой же мрачной и убогой, с закопченным потолком, отставшими от сырости обоями, тремя колченогими стульями и покалеченным комодом, на котором тряпка только размазала грязь. Жервеза подобрала волосы перед круглым зеркальцем, прикрепленным к оконной задвижке и служившим Лантье для бритья; затем она стала умываться, а Лантье пристально разглядывал ее голую шею, голые руки, каждый обнаженный кусочек тела, как будто мысленно с кем-то ее сравнивал. Он презрительно скривил губы. Жервеза прихрамывала на правую ногу, но это было заметно, лишь когда она очень уставала и уже не следила за собой. Нынче утром, совсем разбитая после бессонной ночи, она волочила ногу и хваталась за стены.
Наступила тишина, они больше не обменялись ни словом. Казалось, Лантье выжидает. Жервеза боролась со своим горем и, притворяясь спокойной, торопливо заканчивала дела. Когда она принялась связывать в узел грязное белье, валявшееся в углу за сундуком, Лантье наконец разжал губы и пробормотал:
— Что ты делаешь?.. Куда собралась?
Она не ответила. Но когда он в бешенстве повторил вопрос, резко сказала:
— Ты что ж, не видишь?.. Пойду постираю… Не могут же ребята жить в такой грязи.
Он молча смотрел, как она собирает белье. И вдруг спросил:
— Есть у тебя деньги?
Она разом выпрямилась, не выпуская из рук грязные рубашонки малышей, и посмотрела ему в глаза.
— Какие деньги? Ты, может, думаешь, я их ворую?.. Ты же знаешь, что я получила всего три франка за черную юбку, а было это еще позавчера. На них мы уже два раза обедали, а хлеб даром не дается… Ясное дело, ничего у меня нет. Вот — четыре су на прачечную… Я не прирабатываю на стороне, как некоторые другие.
Лантье ничего не ответил на ее намек. Встав с кровати, он оглядел висевшее на стенах тряпье, затем схватил брюки и шаль, открыл комод, вытащил кофточку и две женские сорочки, швырнул все это Жервезе и сказал:
— Сходи-ка заложи!
— Может, ты хочешь, чтобы я заодно заложила и детей? — спросила она. — Кабы за них платили, ты бы живо с ними разделался!
Но она все-таки отправилась в ломбард. Через полчаса она вернулась, положила на камин пятифранковую монету и добавила еще одну квитанцию к пачке, лежавшей между подсвечниками.
— Вот все, что я получила, — сказала она. — Я просила шесть франков, но мне не дали. Уж они-то не разорятся, будьте покойны!.. И все же сколько там толчется народу!
Лантье не сразу забрал принесенную монету. Он хотел послать Жервезу разменять деньги, чтобы кое-что уделить и ей. Но, увидев на комоде в бумажке остатки ветчины и кусок хлеба, он передумал и сунул монету в жилетный карман.
— Я не ходила к молочнице, ведь мы должны ей уже за целую неделю, — сказала Жервеза. Я выйду ненадолго, а ты пока купи хлеба и котлет, и мы позавтракаем… Да захвати литр вина.
Он промолчал. Казалось, мир был восстановлен. Жервеза снова принялась увязывать грязное белье. Но когда она стала доставать из сундука рубашки и носки Лантье, он крикнул:
— Не тронь мое белье, слышишь? Я не желаю!
— Как не желаешь? Уж не думаешь ли ты опять нацепить эту грязь? Их надо постирать.
Она с тревогой всматривалась в его наглое смазливое лицо и видела все то же жестокое выражение, как будто теперь ничто не могло его смягчить. Он разозлился, вырвал у нее белье и швырнул его в сундук.
— Черт тебя дери! Будешь ты слушаться наконец?! Говорю тебе — не желаю!
— Но почему? — спросила она, бледнея, и в голове у нее мелькнуло страшное подозрение. — Зачем тебе сейчас эти рубашки, ты же не собираешься уезжать… Тебе-то что, если я их унесу?
Он запнулся, смущенный ее пристальным, тревожным взглядом.
— Почему?.. Почему?.. — пробормотал он. — Иди ты к дьяволу! Потом будешь всем жаловаться, что нянчишься со мной, обстирываешь, обшиваешь. А мне это осточертело! Занимайся своими делами и не приставай ко мне… У нищих не бывает прачек.
Она стала его упрашивать, уверяя, что никогда не жаловалась на него, но он захлопнул сундук, сел на крышку и грубо крикнул: «Нет!» Он хозяин своим вещам! Затем, чтобы избежать ее вопрошающего взгляда, который преследовал его, он снова улегся и заявил, что хочет спать и пусть она оставит его в покое. На этот раз он как будто и вправду уснул.
Жервеза с минуту стояла в нерешительности. Ей хотелось остаться дома, бросить узел с бельем и уж лучше сесть за шитье. Но ровное дыхание Лантье вскоре успокоило ее. Она взяла шарик синьки и кусок мыла, оставшийся от прошлой стирки, подошла к малышам, тихонько игравшим у окна старыми пробками, и, поцеловав их, сказала шепотом:
— Будьте умниками и не шумите. Папа спит.
Когда она уходила, в комнате стояла глубокая тишина, только приглушенный смех Клода и Этьена слабо отдавался под закопченным потолком. Было десять часов. Солнечные лучи падали в полуоткрытое окно.
Выйдя на бульвар, Жервеза свернула налево и пошла по Новой улице в квартале Гут-д’Ор. Проходя мимо заведения г-жи Фоконье, она поздоровалась с хозяйкой, кивнув головой. Прачечная находилась в середине улицы, там где начинается подъем. На плоской крыше низкого строения, выставив круглые серые бока, стояли громадные баки для воды — три скрепленных крупными болтами цинковых цилиндра, а позади возвышалась сушилка, двухэтажная пристройка со стенами из тонких поперечных планок, вроде жалюзи, сквозь которые проходил свежий воздух и виднелось белье, сушившееся на латунных проволоках. Справа, подле баков для воды, торчала тонкая труба паровой машины, которая равномерно пыхтела, с каждым хриплым вздохом выбрасывая клубы белого дыма. Войдя в подворотню прачечной, заставленную кувшинами с жавелем, Жервеза, привыкшая к лужам, даже не подобрала юбки. Она знала хозяйку заведения, щупленькую женщину с больными глазами, которая сидела в застекленной каморке, разбирая счета и бумаги; вокруг нее на полках лежали бруски мыла, шарики синьки в банках и килограммовые пакеты соды. Жервеза взяла свой валек и щетку, оставленные на хранение в прошлую стирку, и, получив номерок, прошла в мойку.
Прачечная помещалась в громадном сарае с широкими окнами и плоским потолком; выступавшие на нем длинные балки опирались на литые чугунные столбы. Тусклый, белесый свет пробивался сквозь горячие испарения, висевшие в воздухе, как молочный туман. Густой пар поднимался из углов и окутывал все сизой пеленой. С потолка падали тяжелые капли, и в воздухе стоял удушливый запах мыла, который порой перебивала резкая вонь жавеля. По обеим сторонам среднего прохода вдоль лавок выстроились женщины с голыми до плеч руками, голыми шеями и подоткнутыми юбками, из-под которых видны были их ноги в цветных чулках и грубых зашнурованных башмаках. Промокшие до нитки, красные и распаренные, они яростно колотили белье, хохотали, откидывались назад, перекликаясь среди оглушительного шума, и снова склонялись над лоханями, грубые, распущенные, бесстыжие. Вокруг них со всех сторон хлестали потоки воды, одним махом выплескивались ведра с кипятком, из кранов с шипением били холодные струи, из-под вальков летели брызги, бежали ручьи с мокрого белья, а под ногами хлюпали лужи, стекая по наклонному каменному полу. И среди криков, дробного стука вальков, шелеста падающих дождем капель, среди всего этого грохота, замиравшего под влажным потолком, словно громовые раскаты, неумолчно пыхтела и хрипела в углу паровая машина, покрытая белесой изморосью, и ритмичные движения ее содрогавшегося маховика, казалось, управляли этим оглушительным шумом.
Жервеза шла мелкими шажками по среднему проходу, поглядывая по сторонам. Изогнувшись, она несла под мышкой узел белья и, прихрамывая сильнее обычного, пробиралась среди сновавших взад-вперед и толкавших ее женщин.
— Сюда, сюда, голубушка! — услышала она зычный голос г-жи Бош.
Когда Жервеза подошла к ней, в левый угол, привратница, которая яростно терла носки, затараторила, не прекращая работы:
— Становитесь вот тут рядом, я заняла вам местечко… У меня нынче стирки немного. Бош почти не пачкает белья. А у вас? Я вижу, вы тоже долго не задержитесь. У вас совсем маленький узелок. Мы управимся до полудня и поспеем к завтраку… Раньше я отдавала белье прачке на улицу Пуле, но оно все расползалось от хлора и щеток. Теперь я стираю сама. И белье цело, и деньги в кармане. Только за мыло платить… Послушайте, эти рубашонки вам лучше бы сначала отмочить. Уж эти окаянные ребятишки, задницы у них будто вымазаны сажей!
Жервеза развязала узел и выложила детские сорочки; г-жа Бош посоветовала ей взять ведро щелока, но она ответила:
— Нет! Обойдусь и горячей водой. Я это дело знаю.
Она разобрала белье и отложила в сторону все цветное. Потом налила из-под крана в лохань четыре ведра холодной воды и опустила в нее белые вещи; подоткнув юбку и зажав подол между коленями, она вошла в похожую на ящик кабинку, доходившую ей до пояса.
— Видать, вы и впрямь дело знаете! — заметила г-жа Бош. — Небось были прачкой у себя на родине, верно, милочка?
Жервеза засучила рукава, обнажив красивые белые руки с нежной кожей и розоватыми локтями, и принялась за стирку. На узкой доске, стертой и побелевшей от горячей воды, она расстелила рубашку, намылила ее, перевернула и снова намылила. Затем она принялась крепко колотить вальком и только тогда заговорила, громко выкрикивая слова в такт равномерным ударам:
— Ну да, прачкой… С десяти лет… Было это двенадцать лет назад… Мы ходили стирать на речку… И пахло там получше, чем здесь… Поглядели бы вы, какой там был уголок под деревьями… а какая текла прозрачная вода… Я жила в Плассане… Вы не слыхали про Плассан? Недалеко от Марселя…
— Вот это я понимаю! — воскликнула г-жа Бош, с восхищением наблюдая за сильными ударами валька. — Ну и хватка! Этак вы и железо расплющите своими девичьими ручками!
Они продолжали болтать, крича во весь голос. Порой привратнице приходилось нагибаться к Жервезе, чтобы расслышать ее слова. Жервеза переколотила все белье — и здорово переколотила! — затем бросила его в лохань и стала вынимать штуку за штукой, снова намыливать и оттирать короткой жесткой щеткой. Одной рукой она прижимала белье к доске, а другой скребла его, сгоняя грязную пену, которая падала на пол длинными хлопьями. И тут, под глухой звук скребущей щетки, они наклонились друг к другу и начали более задушевный разговор.
— Нет, мы не женаты, да я и не скрываюсь, — говорила Жервеза. — Лантье не такое уж сокровище, чтобы я мечтала стать его женой. Эх, кабы не ребята, что и говорить… Мне было четырнадцать, а ему восемнадцать, когда родился наш старшенький. А спустя четыре года появился и второй… Все случилось так, как оно всегда бывает, сами знаете… Не больно-то сладко мне жилось дома; чуть что — и отец Маккар пинал меня ногой в зад. Понятно, мне не сиделось дома, все тянуло погулять… Нас собирались поженить, а потом, уж не знаю почему, родители передумали.
Она стряхнула с покрасневших рук белую пену.
— Какая в Париже жесткая вода, — заметила она.
Госпожа Бош стирала не торопясь. Она останавливалась, растягивая работу, чтобы выведать эту историю, которая вот уже две недели не давала ей покою. Она жадно слушала, повернув к Жервезе толстое лицо с полуоткрытым ртом; ее вытаращенные глазки блестели. Довольная, что догадка ее подтвердилась, она думала: «Так-так, девчонка что-то очень разболталась. Не иначе как они повздорили». И спросила вслух:
— Значит, он неважно обращается с вами?
— И не говорите! — ответила Жервеза. — Там, дома, он был со мной очень хорош, но с тех пор, как мы приехали в Париж, совсем отбился от рук… Знаете, в прошлом году у Лантье умерла мать и кое-что оставила ему, около тысячи семисот франков. Вот он и задумал переехать в Париж. Отец Маккар по-прежнему то и дело кормил меня затрещинами, ну я и согласилась уехать. Мы отправились вместе с детьми. Лантье собирался устроить меня в прачечную, а сам хотел поступить в шляпную мастерскую, ведь он шляпник. Мы могли бы жить припеваючи… Но Лантье слишком много о себе воображает, он мот и бездельник, только и думает, как бы погулять. Немногого он стоит, что и говорить… Так вот, вначале поселились мы в гостинице «Монмартр», на улице Монмартр. И пошли у нас ужины, кареты, театры, ему — часы, мне — шелковое платье; вообще-то он не жадный, когда у него есть деньги. Но недолго мы шиковали, не прошло и двух месяцев, как мы уже сидели без гроша. Тогда нам пришлось перебраться в «Добро пожаловать», и началась эта собачья жизнь…
Жервеза внезапно почувствовала комок в горле и замолчала, сдерживая слезы. Она уже перетерла щеткой все белье.
— Мне надо сходить за горячей водой, — пробормотала она.
Но г-жа Бош, очень недовольная, что прервался такой интересный разговор, крикнула проходившему мимо рабочему из прачечной:
— Шарль, голубчик, принесите, пожалуйста, горячей воды моей соседке, она очень торопится.
Шарль взял ведро и наполнил его до краев. Жервеза заплатила — ведро кипятку стоило одно су. Она вылила его в лохань и стала в последний раз намыливать белье, оттирая его руками; она низко склонилась над лавкой, окутанная серым облаком пара, который мелкими каплями оседал на ее светлых волосах.
— Бросьте в воду чуточку соды, тут у меня еще осталось, — любезно сказала привратница.
И она высыпала ей в лохань остатки стиральной соды из принесенного с собою пакетика. Г-жа Бош предложила и жавеля, но Жервеза отказалась: жавелем хорошо выводить только жирные и винные пятна.
— Мне кажется, он любит бегать за юбками, — сказала привратница, продолжая начатый разговор, но не называя Лантье.
Жервеза стояла, согнувшись над лоханью, крепко выжимая руками белье, и только тряхнула головой.
— Да, да, — продолжала г-жа Бош, — я и сама кое-что замечала…
Но она тут же прикусила язык, увидев, что Жервеза разом выпрямилась и, вся побледнев, впилась в нее глазами.
— Но я, право, ничего не знаю! Он, видно, не прочь подурачиться, вот и все! К примеру, вы знаете двух девчонок, что живут у нас в доме: Адель и Виржини, — так вот, он частенько балагурит с ними. Но дальше шуток дело не идет, можете мне поверить.
Жервеза стояла потная, с мокрыми руками и не сводила с нее пристального, пытливого взгляда. Тогда привратница рассердилась и, стукнув себя в грудь кулаком, закричала:
— Ей-богу, я ничего не знаю, я же вам сказала!
Потом, разом успокоившись, она добавила медовым голосом, каким говорят с человеком, от которого хотят утаить правду:
— А по-моему, у него честные глаза… Он еще женится на вас, милочка, помяните мое слово!
Жервеза отерла лоб мокрой ладонью. Она вытащила из лохани рубашку и снова покачала головой. Обе замолчали. Вокруг них все угомонилось. Пробило одиннадцать часов. Прачки уселись бочком на краю лоханок, поставили прямо на пол откупоренные литровые бутылки и принялись уписывать толстые ломти хлеба с колбасой, запивая их вином. Только хозяйки, пришедшие с небольшими узелками, торопились закончить стирку, поглядывая на круглые часы над застекленной будкой. Кое-где, среди приглушенного смеха и болтовни, прерываемой громким чавканьем, еще слышались удары валька; а между тем паровая машина ни на минуту не прекращала работу, и голос ее стал как будто еще громче; она выла и пыхтела, наполняя ревом огромное помещение. Но ни одна из женщин не замечала его, словно это было тяжелое дыхание самой прачечной, обдававшее всех горячим паром, который клубился, растекаясь под потолком. Жара становилась нестерпимой; слева, в широкие окна, врывались солнечные лучи, опрашивая колеблющиеся молочные испарения в нежные мутно-розовые и серо-голубые тона. Кругом все жаловались на жару, и Шарль, пройдя от окна к окну, задернул грубые полотняные шторы; затем он перешел на теневую сторону и открыл все форточки. Прачки приветствовали его, хлопая в ладоши, по прачечной прокатилась волна буйного веселья. Вскоре смолкли и последние удары вальков. Сидя с набитым ртом, прачки уже не болтали, а только размахивали руками, зажав в кулаке нож. Наступила такая тишина, что было слышно, как истопник в дальнем углу скребет лопатой, набирая каменный уголь, и забрасывает его в топку.
Жервеза стирала цветные вещи в оставшейся горячей мыльной воде. Кончив, она пододвинула козлы и бросила на них выстиранное белье, с которого по полу растекались голубоватые лужицы. Затем взялась за полосканье. Позади нее из крана лилась холодная вода, наполняя привинченный к полу большой бак, внутри которого были укреплены две деревянные перекладины. Над ним проходили еще две планки, на которые вешали белье, чтобы с него сбегала вода.
— Ну вот, скоро и делу конец, быстро управились, — сказала г-жа Бош. — А теперь я помогу вам выжимать.
— Что вы, не стоит, большое спасибо! — ответила Жервеза. Она тискала кулаками цветное белье, а затем прополаскивала его в чистой воде. — Вот если б я принесла простыни, тогда другое дело.
Но привратница настаивала, и Жервезе пришлось принять ее помощь. Они начали выжимать с двух концов линючую шерстяную юбку, с которой стекали коричневые струйки, как вдруг г-жа Бош закричала:
— Ишь ты! Вон дылда Виржини!.. А этой чего надо? Притащила свои лохмотья в носовом платке?
Жервеза, вздрогнув, подняла голову. Виржини, ее ровесница, темноволосая девушка, ростом повыше Жервезы, была довольно красива, несмотря на чересчур Длинное лицо. На ней было старое черное платье с воланами, шею она повязала красной косынкой, а волосы тщательно уложила узлом и забрала в синюю сеточку из синели. Она на минутку задержалась в среднем проходе и прищурила глаза, как будто искала кого-то, затем, увидев Жервезу, прошла мимо нее, вздернув голову, нахально покачивая бедрами, и устроилась в том же ряду, человек через пять.
— И что это ей на ум взбрело! — говорила г-жа Бош, понизив голос. — Она никогда и воротничка не постирает. Лентяйка, каких свет не видал! Швея, а не заштопает себе даже пары чулок. Точь-в-точь как ее сестра, полировщица Адель: эта бездельница тоже день работает, а два гуляет. Никто не знает, кто их родители, живут они неизвестно на что, да уж если порассказать… Что она там трет? Ишь ты, никак юбку? Экая грязища! Уж эта юбка, наверно, видала виды!
Госпоже Бош, должно быть, хотелось доставить Жервезе удовольствие. Сказать по правде, она частенько пила с девушками кофе, когда у них водились деньги. Жервеза не отвечала, она торопилась, и руки у нее дрожали. Теперь она развела синьку в маленьком ушате на трех ножках. Она опускала в него белье, прополаскивала в голубоватой, словно перламутровой воде и, слегка отжав, вешала на верхние перекладины. Все это время она нарочно стояла, повернувшись к Виржини спиной. Но она слышала, как та хихикает, и чувствовала на себе ее косые взгляды. Казалось, Виржини пришла лишь затем, чтобы ей насолить. И когда Жервеза случайно обернулась, они уставились друг на друга в упор.
Не связывайтесь с ней! — прошептала г-жа Бош. — Не хватает еще, чтоб вы вцепились друг дружке в волосы… Ей-богу, у нее с Лантье ничего не было. Ведь я говорила о ее сестре.
В ту минуту, когда Жервеза вешала последнюю рубашку, у двери прачечной послышался смех.
— Тут двое ребятишек спрашивают маму! — крякнул Шарль.
Все женщины обернулись. Жервеза увидела Клода и Этьена. Как только дети заметили мать, они побежали к ней прямо по лужам, щелкая каблуками незашнурованных башмаков. Старший, Клод, вел за руку младшего брата. Глядя на испуганные, но улыбающиеся мордочки малышей, прачки подбадривали их ласковыми словами. Дети остановились возле матери и, все еще держась за руки, подняли к ней белокурые головки.
— Вас папа прислал? — спросила Жервеза.
Она присела на корточки, чтобы зашнуровать Этьену ботинки, и тут заметила, что у Клода на пальце болтается ключ от комнаты с медным номерком.
— Как, ты принес мне ключ?! — удивилась она. — Зачем это?
Мальчик, взглянув на ключ, о котором уже успел позабыть, казалось, сразу все вспомнил и крикнул звонким голоском:
— Папа уехал!
— Он пошел купить чего-нибудь к завтраку, а вас послал сюда за мной?
Клод опешил и, взглянув на брата, немного помедлил. Вдруг он выпалил:
— Папа уехал… Он спрыгнул с кровати, сложил все вещи в сундук и отнес сундук в экипаж… Он уехал!
Жервеза, вся побелев, медленно выпрямилась и сжала руками виски, словно голова у нее раскалывалась. Она не находила слов и без конца твердила:
— Ах, боже мой!.. Боже мой!.. Боже мой!..
Тем временем г-жа Бош, в упоении оттого, что стала свидетельницей этой истории, выпытывала у мальчика:
— А ну, малыш, расскажи-ка все толком. Папа запер дверь, а потом велел вам отнести сюда ключ, так? — И, понизив голос, она прошептала ему на ухо: — А в коляске сидела дама, ты не видел?
Клод снова смешался. Но, подумав, повторил с торжествующим видом:
— Он спрыгнул с кровати, сложил все вещи в сундук… и уехал!
Тогда г-жа Бош оставила мальчика в покое, а тот потащил брата к крану, и оба стали забавляться, пуская струи холодной воды.
Жервеза не могла плакать. Она задыхалась, прислонившись спиной к лохани, по-прежнему закрыв руками лицо. Ее трясло как в лихорадке. Порой у нее вырывался тяжкий вздох, и она сильней прижимала руки к глазам, как будто старалась погрузиться во тьму, забыть о своем одиночестве. Ей казалось, что она падает на дно глубокой пропасти.
— Полно, душенька, плюньте вы на него! — шептала г-жа Бош.
— Если б вы знали! Если б вы только знали! — тихонько заговорила наконец Жервеза. — Он послал меня утром в ломбард заложить мои рубашки и шаль, чтобы заплатить за этот экипаж…
Она заплакала. Вспомнив, как Лантье отправил ее в ломбард, она поняла тайный смысл утренней ссоры и не могла сдержать рыданий, рвавшихся из груди. Этот обман, это гнусное предательство больше всего терзало ей сердце. Слезы текли по ее мокрому лицу и капали с подбородка, а она и не думала их утирать.
— Возьмите же себя в руки, перестаньте, на вас смотрят, — твердила г-жа Бош, хлопоча возле нее. — Ну можно ли так убиваться из-за мужчины! Значит, вы все еще любите его, бедняжка? Ведь вы только что готовы были его растерзать. А теперь льете слезы, надрываете себе сердце… Господи, какие же все мы дуры!
Затем она заговорила с материнским участием:
— Бросить такую хорошенькую женщину… ну как не стыдно! Теперь вам, пожалуй, пора все узнать, ведь правда? Так вот, когда я пришла к вам под окно, я уже подозревала… Представьте, вчера вечером, когда Адель возвращалась домой, я услышала за ней мужские шаги и, конечно, выглянула на лестницу: хотела посмотреть, кто это. Они уже поднимались на третий этаж, однако я сразу признала пиджак господина Лантье. Сегодня утром Бош подкарауливал его и видел, как Лантье спокойно сошел вниз… Он спутался с Аделью, можете мне поверить. У Виржини есть любовник, она ходит к нему два раза в неделю. Однако все это изрядная пакость, ведь у них одна комната и одна кровать, — где уж там спала Виржини — ума не приложу.
Она на минутку замолчала, затем оглянулась и продолжала, сдерживая свой зычный голос:
— Она смеется над вашими слезами, эта бессердечная тварь. Голову даю на отсечение, она затеяла стирку только для отвода глаз… Проводила ту парочку, а сама пришла сюда, чтобы рассказать им, как вы встретите эту новость.
Жервеза отняла руки от лица и оглянулась. Увидев, что Виржини стоит в кучке женщин и, уставившись на нее, что-то тихонько рассказывает, она пришла в бешенство. Вытянув руки, она нагнулась и принялась шарить по полу, кружась на месте и дрожа всем телом; затем сделала два-три шага, наткнулась на полное ведро, схватила его обеими руками и с маху выплеснула на Виржини.
— Вот стерва! — закричала дылда Виржини.
Она успела отскочить назад, и вода попала ей только на ноги. Прачки, взбудораженные слезами Жервезы, уже толпились вокруг, предвкушая драку. Дожевывая хлеб, женщины взбирались на лохани. А те, что были подальше, сбегались, размахивая мыльными руками. Образовался круг.
— Ну и стерва! — повторила Виржини. — Взбесилась она, что ли?
Жервеза, выставив подбородок, застыла с искаженным лицом и не отвечала: она еще не переняла ни бойкости, ни острого языка парижанок. Виржини продолжала кричать:
— Ишь ты! Этой дряни надоело таскаться по захолустьям! С двенадцати лет она была там солдатской подстилкой, там и ногу себе сгноила… Скоро она совсем отвалится, твоя нога!
В толпе пробежал смешок. Долговязая Виржини, ободренная успехом, выпрямилась и, наступая на Жервезу, заорала пуще прежнего:
— А ну-ка подойди поближе — ты у меня получишь! И не вздумай ко мне приставать… Знаю я эту шкуру! Посмей она меня облить, уж я бы задрала ей подол! Пусть скажет, что я ей сделала… Говори, образина, что я тебе сделала?
— Не болтайте лишнего, — пробормотала Жервеза, — вы сами знаете… Моего мужа видели вчера вечером… Замолчите, не то я вас задушу!
— Ее мужа! Ну и насмешила! Мужа этой дамы!.. Как будто у таких потаскух бывают мужья!.. Не моя вина, если он тебя бросил. Ты, может, думаешь, я его украла? Пускай меня обыщут! Если хочешь знать, ты ему осточертела! Он слишком хорош для тебя. Скажи, а был ли на нем хоть ошейник? Эй, кто нашел мужа этой дамы? Обещано хорошее вознаграждение…
Снова послышался смех. Жервеза по-прежнему бормотала почти шепотом:
— Вы сами знаете, сами знаете… Это ваша сестра, я задушу ее…
— Вот, вот, поди разделайся с моей сестрой, — подхватила Виржини, хихикая. — Так, значит, это моя сестра? Ну что ж, тут нечему удивляться! Моя сестра не такая лахудра, как ты… Да я-то тут при чем? Что ж, мне теперь нельзя и постирать спокойно? Отстань от меня, слышишь? Отвяжись!
Однако она не выдержала: отойдя и несколько раз ударив вальком, она снова вернулась, возбужденная, опьяневшая от собственной ругани, и заорала еще громче:
— Ну да, да! Это моя сестра! Теперь ты довольна?.. Они обожают друг друга. Посмотрела бы ты, как они лижутся!.. А тебя он бросил вместе с твоими ублюдками. У них все рожи в болячках, прелестные крошки, нечего сказать! Одного ты прижила с жандармом — ведь так? — а троих уморила, чтоб развязать себе руки… Я все знаю от твоего Лантье. Уж он порассказал нам о тебе, он и не чаял, как отделаться от такой твари!
Произведения
Критика