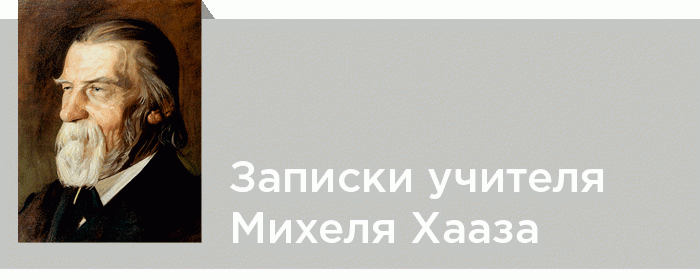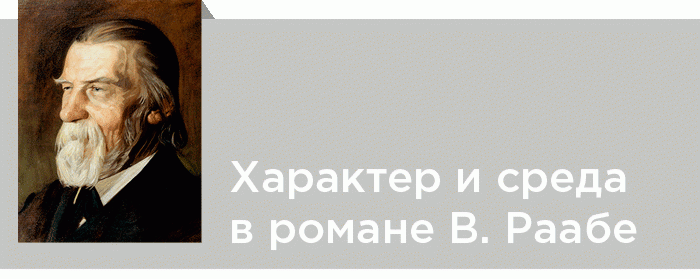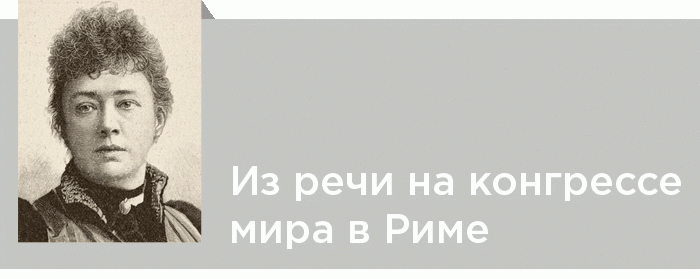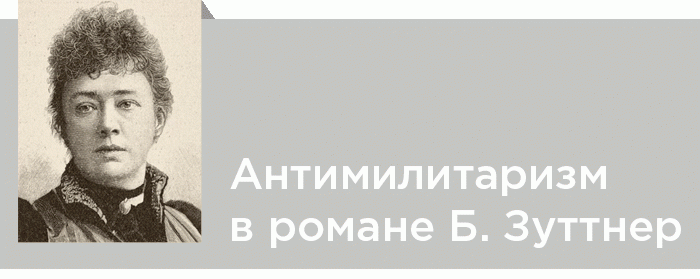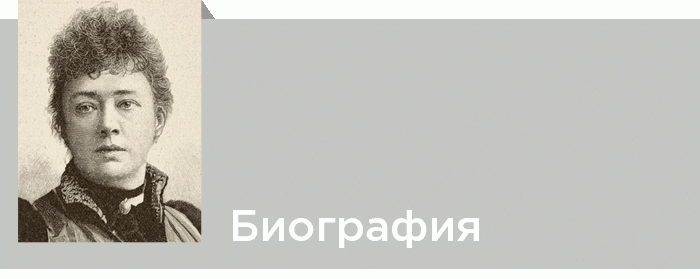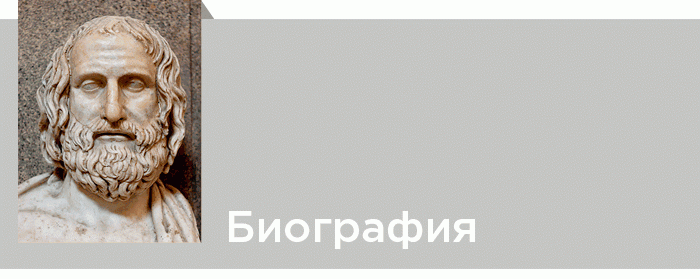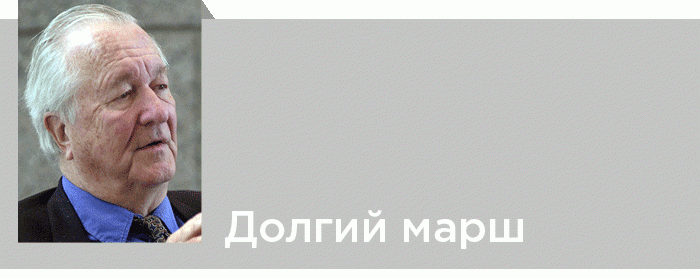Берта фон Зутнер. Долой оружие!
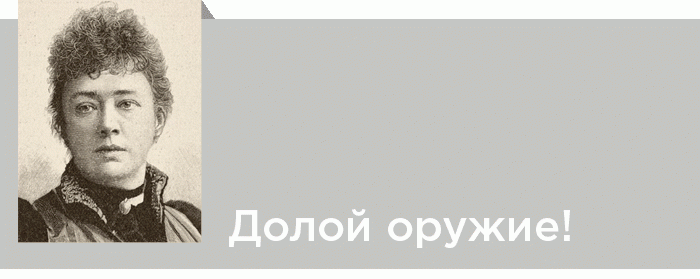
(Отрывок)
I
1859-й год
I
В семнадцать лет я была очень экзальтированной девочкой. Конечно, мне было бы трудно судить об этом теперь, не будь передо мною моего старого дневника. Но в нем верно сохранились давно рассеявшиеся иллюзии, юношеские мысли, никогда больше не приходившие в голову, чувства, переставила волновать меня с тех пор, так что эти уцелевшие листки дают мне ясное понятие о незрелом восторженном миросозерцании, сложившемся в моей неразумной, хорошенькой головке. Порукой в моей красоте служат опять-таки прежние портреты, тогда как теперь зеркало очень мало рассказывает мне о былой прелести юношеских лет. Могу себе представить, какой счастливицей казалась многим молоденькая графиня Марта Альтгауз, окруженная блестящей роскошью и слывшая одною из самых обворожительных девушек в аристократическом кругу Вены! А между тем страницы ее дневника — в красной обложке — дышат чаще меланхолиией, чем светлым, жизнерадостным чувством счастливой юности. Интересно было бы знать, основывалось ли это, действительно, на моем неумении ценить редкие преимущества своего завидного положения, или же на том, что только одни меланхолические мысли казались мне благородными и достойными чести попасть в заветную красную тетрадку, куда я заносила их в самых витиеватых выражениях? Решить этот вопрос в настоящее время было бы трудно, но из дневника, по крайней мере, ясно видно, что моя участь не удовлетворяла меня. Между прочим, там говорится:
«О, Иоанна д'Арк, избранная небом героиня-девственница, как хотелось бы мне идти по твоим следам: со знаменем в руке водить на бой храбрые дружины, короновать своего короля, а потом умереть за дорогую отчизну!»
Однако мне решительно не представлялось случая удовлетворить таким скромным запросам от жизни. Точно так же недоступна была для меня и участь христианских мучениц, растерзанных львами в цирке (пламенное желание найти подобную смерть занесено в дневник 19-го сентября 1853 г.); значит, мне оставалось только изнывать под гнетом сознания, что великие подвиги, которых жаждала моя душа, так и останутся не совершенными, что моя жизнь в сущности — пропадет задаром. Ах, зачем я не явилась на свет мальчиком! (также часто повторявшийся в красной тетрадке бесплодный упрек судьбе). Тогда я могла бы избрать себе возвышенную цель и совершить много полезного. История приводить слишком мало примеров женского геройства. Как редко случается женщинам иметь сыновьями Гракхов, или вынести на плечах мужей из осажденного города, или вырвать у мадьяр, в пылу воинственного воодушевления, приветственный клик: «да здравствует Мария Терезия, наш король!» Но мужчине следует только препоясать меч и броситься на врага, чтобы добыть славу и лавры, завоевать себе трон, как Кромвель, или завладеть целым миром, как Бонапарт! Я помню, что высшее понятие о человеческом величии олицетворялось для меня в военном геройстве. Ученые, поэты, путешественники, открывшие неизвестные страны, конечно, внушали мне также некоторое почтение, но поклоняться я могла только одним завоевателям. Только они по преимуществу двигали историю, направляли судьбу народов; в моих глазах, эти люди, по своему важному значению, по своему благородству и величию, равнявшему их почти с богами, настолько превосходили прочих смертных, насколько вершины Альпов и Гималая выше цветов и трав долины.
Но изо всего этого еще не следует заключать, чтоб я обладала геройской натурой. Дело объяснялось гораздо проще: я была увлекающимся, пылким созданием, и, разумеется, поклонялась тому, что особенно превозносили мои учебники и близкие мне люди. Отец мой был генералом австрийской армии и сражался под Кустоццой под предводительством «старика Радецкого», которого боготворил. Каких только анекдотов из походной жизни не наслушалась я с младенческих лет! Добряк папа так гордился своими военными подвигами и с таким удовольствием рассказывал о кампаниях, в которых принимал участие, что я невольно стала относиться с сожалением ко всякому статскому. Как обидно для женского пола, что его не допускают до этих высоких подвигов чести, что из круга женских обязанностей исключен священный долг проливать кровь за отечество! Когда до меня доходили слухи о стремлениях женщин к равноправности, — а во время моей молодости об этом толковали обыкновенно с насмешкой и порицанием, — я понимала женскую эмансипацию только в одном направлении: мне хотелось, чтобы женщины имели право носить оружие и воевать. Ах, в какой восторг приводили меня страницы из всеобщей истории, где говорилось о Семирамиде или Екатерине II: «она вела войну с тем или другим из своих соседей и завоевала такую-то и такую-то страну!»
История, в том виде, как она преподается юношеству, внушает особенный энтузиазм к войне. Занимаясь этим предметом, ребенок рано привыкает думать, будто бы государи только и делают, что дают сражаются, что война необходима для развития государства, что она — неизбежный закон природы и непременно должна разгораться от времени до времени, потому что от нее нельзя уберечься, как от морских бурь и землетрясений. Конечно, с ней связаны различные ужасы и бедствия, но все это искупается вполне: для массы — важностью результатов, для отдельных личностей — блеском славы и сознанием исполненного долга. Где можно найти самую прекрасную смерть, как не на поле чести, и что может быть благороднее бессмертия героя? Все это выступает как нельзя более рельефно в каждом учебнике, в любой школьной книге для чтения, где, наряду собственно с историей, представленной в виде длинной вереницы войн, приведены рассказы и стихотворения, воспевавшие военную славу. Такова уж патриотическая система воспитания! Из каждого школьника должен выйти будущий защитник отечества, и потому необходимо возбуждать в ребенке восторженное чувство, говоря ему о первом долге гражданина; нужно закалить его дух против естественного отвращения, вызываемого ужасами войны. Вот с этой-то целью воспитатели и учебные книги толкуют о страшнейших кровопролитиях и бесчеловечной резне самым развязным тоном, как о чем-то вполне обыкновенном, неизбежном, выдвигая на первый план только идеальную сторону войны, этого древнейшего обычая народов. Таким путем нам удается воспитать храброе и воинственное поколение.
Девочки — хоть им и не предстоит воевать — обучаются по тем же книгам, приноровленным к солдатскому воспитанию мальчиков, вследствие чего юношество женского пола усваивает те же вкусы, а это выражается у нас завистью к участи мужчин и энтузиазмом перед военным сословием. Сердце радуется, когда яркие картины кровопролитных битв и всяких жестокостей развертывается перед нами, нежными девушками, от которых во всем остальном требуют кротости и мягкости! Начиная с библейских, македонских и пунических войн и кончая тридцатилетней и наполеоновскими походами, история представляет ряд кровавых страниц: города пылают, мирные жители, обращенные в бегство, принуждены «перепрыгивать через клинки мечей», побежденные подвергаются жестоким поруганиям… И, Боже мой, как все это действует на воображение, распаляет его! Чувство жалости невольно притупляется. Все, относящееся к войне, рассматривается уже не с точки зрения человеколюбия; оно освящено, увенчано мистико-историко-политическим ореолом и стоит выше критики. Так должно быть; война — источник высших почестей, арена грандиозных подвигов, и девушки отлично усваивают себе этот взгляд; недаром их заставляют затверживать наизусть стихотворения и прозаические отрывки, в которых превозносится война. Благодаря этому, среди нас являются матери-спартанки, «дочери полков» и придумывается множество фантастических котильонных орденов для раздачи душкам-офицерам во время «выбора дам».
II
Я была воспитана не в монастыре, как большая часть девушек моего круга, а дома, под руководством учителей и гувернанток. Мы рано лишились матери, и ее место заступила при осиротевших детях, — кроме меня у отца осталось еще две младших дочери и сын, — родная тетка, пожилая особа, состоявшая членом религиозной общины. Зиму наша семья проводила в Вене, а лето — в собственном поместье в Нижней Австрии.
Учителя и воспитательницы были безусловно довольны мною — это я отлично помню — и не мудрено: природа одарила меня прекрасной памятью, и я была прилежной, а главное — честолюбивой ученицей. Если мое честолюбие, как было замечено выше, не могло найти себе удовлетворения в подвигах военной доблести по примеру Орлеанской девы, то я хотела, по крайней мере, получать хорошие баллы за ученье и похвалы моей любознательности. Английский и французский языки были изучены мною почти в совершенстве; из географии и астрономии, из естественной истории и физики я усвоила все, что считают нужным включить в программу образования благородных девиц; что же касается всеобщей истории, то ее я изучала гораздо пространнее, чем требовалось. Все свободные от уроков часы посвящались мною чтению многотомных исторических сочинений из библиотеки отца. Я искренно верила, что становлюсь чуточку умнее всякий раз, когда мне удавалось запечатлеть в своей памяти какое-нибудь событие, имя или число из прошедших времен. Зато игра на фортепиано — также входившая в план моего воспитания — была мне ненавистна. Не имея ни таланта, ни охоты к музыке, я отлично видела, что не найду здесь удовлетворения своему честолюбию, и до того энергически противилась всем попыткам принудить меня к бездельному брянчанию, что отец отменил в конце концов эти уроки, и мне не приходилось более терять понапрасну дорогое время, которое я отдавала любимым занятиям. Тетке пришлось это очень не по сердцу; она утверждала, что без уменья играть на рояле светская девушка не может назваться образованной в полном смысле слова.
Десятого марта 1857 года, я праздновала семнадцатый раз день своего рождения. «Уже семнадцать!» записано под этим числом в моем дневнике. Это «уже», право, заключает в себе целую поэму! Хотя лаконическая заметка не снабжена никаким комментарием, но очевидно, я хотела добавить: «а мною ничего еще не сделано для бессмертия». Эти красные тетрадки оказывают мне неоцененную услугу в настоящее время, когда я принялась писать историю моей жизни. Они дают мне полную возможность воспроизвести во всех подробностях минувшие события, которые сохранились в моей памяти только в виде туманных, расплывчатых образов; они напоминают мне и прежние мысли, и давно забытые разговоры, так что я в состоянии привести их дословно.
В предстоящий зимний сезон я должна была начать свои выезды в свет. Эта перспектива не приводила меня однако в особенный восторг, как других девушек. Моя душа стремилась к чему-то высшему, и бальные триумфы не кружили мне головы. Но чего мне собственно хотелось? Я не могла бы ответить определенно на этот вопрос. Вероятно, мое сердце жаждало любви… только я не отдавала себе отчета в моих смутных желаниях. Все эти порывания куда-то, в неведомую даль, искание идеала, пылкие мечты, волнующие нас в годы юности, честолюбивые затеи, в какой бы форме они ни проявлялись — под видом ли особенной любознательности, страсти к путешествиям или жажды подвигов, — в большинстве случаев не что иное, как скрытые симптомы пробуждающегося любовного влечения.
В то лето врачи послали мою тетку на воды в Мариенбад. Она решила взять меня с собою. Хотя мое официальное вступление в так называемый «свет» должно было совершиться только зимою, однако родные нашли возможным вывозить меня на маленькие балы в кургаузе, чтоб я научилась держать себя в большом обществе и не слишком робела при первых выездах в столице. Но что произошло на первом же «собрании», где я появилась дебютанткой? Мое неопытное юное сердечко немедленно попало в плен! Пленил его, само собою разумеется, молодой гусарский офицер. Бывшие в зале статские казались мне, в сравнении с военными, неуклюжими майскими жуками возле нарядных мотыльков. Из всех присутствовавших военных самыми блестящими были гусары, а между всеми гусарами самым обворожительным оказался граф Арно Доцки. Высокий рост, курчавые черные волосы, закрученные усики, белые зубы, темные глаза, умевшие смотреть так нежно, проникавшие в самую душу, вот что поражало в нем с первого взгляда. Одним словом, когда он спросил меня: «Вы еще никому не обещали котильон, графиня?» — я почувствовала, что существуют на свете другие, не менее восхитительные триумфы, кроме тех, которые выпали на долю Орлеанской деве или Екатерине Великой. Граф Арно, двадцатидвухлетний юноша, вероятно, испытывал также нечто подобное, кружась по зале в вихре вальса с самой хорошенькой девушкой из всех присутствовавших (тридцать лет спустя, я могу это высказать без малейшего стеснения). И, вероятно, у него вертелось в голове: «Обладание тобою, прелестное существо, стоит всевозможных маршальских жезлов!»
— Марта, Марта, опомнись! — с упреком шепнула мне тетка, когда я, запыхавшись, опустилась на стуле возле нее, так что тюлевые воланы моего бального платья чуть-чуть не закрыли голову доброй старушки.
— Простите, ради Бога, тетя! — взмолилась я, усаживаясь, как следует, и оправляясь. — Я, право, нечаянно!..
— Ах, я вовсе не про то. Но твое обращение с этим гусаром было неприлично. Разве можно так прижиматься к своему кавалеру во время танцев и заглядывать прямо в глаза мужчине?
Мои щеки зарделись ярким румянцем. Неужели я вела себя нескромно? Неужели «несравненный» получил обо мне дурное мнение?
Однако я имела случай успокоиться на этот счет еще во время бала. После ужина, граф пригласил меня на вальс и шепнул мне на ухо:
— Выслушайте меня… я не могу иначе… вы должны узнать… непременно сегодня же: я люблю вас.
Эти слова звучали очень приятно в своем роде, и сладко взволновали меня, не хуже знаменитых «голосов» Иоанны д'Арк… Но, продолжая танцевать, я, разумеется, не могла ничего ответить. Он, вероятно, понял это, потому что остановился. Теперь мы стояли с ним в пустом углу залы, где нас никто не мог слышать.
— Скажите, графиня, на что я могу надеяться?
— Я вас не понимаю, — схитрила я.
— Пожалуй, вы не верите «в любовь с первого взгляда?» Я сам до настоящей минуты считал ее вздором, но сегодня убедился на деле, что она действительно существуете.
Как шибко билось у меня сердце. Однако я молчала.
— Будь, что будет, — продолжал Доцки, — я ставлю на карту все, что мне дорого… Вы или никто! От вас зависит решение моей судьбы, в ваших руках мое счастье или смерть… потому что без вас я не могу и не хочу жить… Говорите же: согласны вы быть моею?
На такой прямой вопрос было необходимо что-нибудь сказать. Я придумывала уклончивый ответь, который, не отнимая надежды у графа, все-таки поддержал бы мое достоинство, но, вместо того, только могла прошептать дрожащим голосом еле слышное: «да».
— Следовательно, я могу иметь честь завтра же просить вашей руки у вашей тетушки, а потом написать графу Альтгаузу?
Снова последовало лаконическое «да», однако на этот раз уже несколько тверже.
— О, я счастливец! Значит, тоже с первого взгляда? Ты любишь меня?
Тут я ответила только глазами, но они, наверно, как нельзя понятнее сказали: «люблю!»
III
Наша свадьба была отпразднована в тот день, когда мне минуло восемнадцать лет, но предварительно состоялось мое вступление в свет, и я была представлена императрице в качестве «невесты». После обряда венчания мы отправились путешествовать по Италии, так как Арно выхлопотал себе продолжительный отпуск. О его выходе в отставку у нас не было и речи. Хотя мы оба имели порядочные средства, но мой муж любил свое военное звание, и я сочувствовала ему. Я гордилась моим красивым гусаром и с удовольствием думала о том времени, когда его произведут в ротмистры, потом в полковники, а там сделают и генералом. Кто знает, может быть, ему предстоит выдающаяся карьера, и он сделается великим полководцем, обессмертит свое имя на славных страницах отечественной истории.
Теперь мне очень жаль, что в красных тетрадках не говорится ничего о счастливом времени со дня помолвки до свадьбы и о первых неделях моего супружества. Конечно, блаженство и радости тех дней пронеслись бы так же быстро, развеялись прахом и канули в вечность, если б я и занесла их на страницы моего дневника, но тогда между заветными листами сохранилось бы, но крайней мере, их светлое отражение. Но, нет, для своих горестей я не находила достаточно жалоб, многоточий и восклицательных знаков; печальные эпизоды, грустные чувства я считала нужным тщательно поведать как современникам, так и потомству, но счастливыми часами наслаждалась молча. Счастье не внушало мне гордости, и потому я не поверяла его никому, даже своему дневнику; только в страданьях и тоске видела я нечто в роде заслуги и носилась с ними. Все тяжелые периоды моей жизни описаны мною с удивительной яркостью, тогда как в счастливые времена я не заглядывала в красные тетрадки. Ужасно глупо! Я поступала как человек, который, желая принести что-нибудь домой на память об интересной экскурсии, собирал бы по дороге только одно некрасивое и наполнял бы свою жестянку для ботанизирования — репейником, колючками, червями, жабами, оставив без внимания цветы и мотыльков.
Тем не менее, я помню, что то было чудное, время, просто какой-то волшебный сон. Судьба наделила меня всем, чего только может пожелать юное женское сердце: любовью, богатством, высоким положением, свободой. И многое в жизни было для меня еще так ново, увлекательно! Мы с Арно до безумия любили друг друга, любили со всем пылом, со всей полнотою свежих юношеских сил, сознавая, что мы красивы, молоды и имеем все права на счастье. Мой блестящий гусар оказался честным, добрым, благородным юношей, светски образованным, да еще вдобавок с веселым характером. Это уж была чистая случайность в мою пользу. Ведь он мог точно так же оказаться грубым и злым. Какой порукой в его нравственных достоинствах служила наша первая встреча на балу в мариенбадском курзале? Точно так же и я совершенно случайно оказалась довольно благоразумной, покладистой женой. Ведь и Арно рисковал в свою очередь, увлекшись хорошеньким личиком, связать свою жизнь с пустой, капризной женщиной! Таким образом вышло, что мы оба были совершенно счастливы, вследствие чего книжка в красном переплете наполненная моими иеремиадами, долго лежала нетронутой.
Впрочем, нет, позвольте, здесь я нахожу несколько веселых строк — излияния восторга по поводу того, что я сделалась матерью. Первого января 1859 г. (отличный новогодний подарок!) у нас родился сын. Такое событие, разумеется, ужасно обрадовало меня и Арно; оно показалось нам чем-то феноменальным, точно мы были первою супружескою четою, с которою произошло такое диво. Меня крайне занимало мое новое звание матери, и очень естественно, что я опять вспомнила свой дневник. Надо же было увековечить для потомства такое замечательное происшествие! Кроме того, самая тема: «молодая мать» представляет особенно благодарный материал для искусства и литературы. Недаром в ней почерпали вдохновение все поэты и художники. Она так легко настраивает и на мистический, и на религиозный лад, затрагивает такие чувствительные струны сердца. Одним словом, в ней можно найти столько возвышенного и вместе с тем столько наивного, милого, что это настоящая поэзия. Как школьные учебники способствуют развитию воинственного духа в учащихся, так и это восторженное отношение к материнству, воплощенному в молодой женщине, поддерживают по мере сил всевозможные сборники стихотворений, иллюстрированные журналы, картинные галереи и избитые фразы под рубрикою: «материнская любовь», «материнское счастье», «материнская гордость». Как люди почитают героев (см. «Герои и героическое в истории» Карлейля), доходя в данном случае до боготворения смертных, в такую же крайность ударяются они и в поклонении перед собственными детьми в младенческом возрасте. Разумеется, я не отставала в этой слабости от других матерей. Мой крошечный, ненаглядный Руру был для меня первым чудом света. Ах, мой дорогой сын, мой взрослый славный Рудольф, перед моим настоящим чувством к тебе мое прежнее ребяческое восхищение тобою кажется таким ничтожным! Между этой слепой, глупой, обезьяньей любовью молодой матери и теперешней зрелой привязанностью — такая же бездна, как между беспомощным младенцем и вполне сложившимся человеком.
Молодой отец не меньше меня гордился своим наследником, и строил самые заманчивые планы насчет его будущности. «Что же мы из него сделаем?» Этот несколько преждевременный вопрос часто задавался у колыбели Руру, и мы всегда единогласно решали: «Конечно, солдата!» Впрочем, со стороны матери слышался порою слабый протест: «Ну, а что, если его убьют на войне?» — «Вот вздор какой! — возражал Арно. — Всякий из нас умрет, когда и где ему назначено. Кроме того, ведь Руру не останется же единственным сыном: Бог даст, у него будут еще и младшие братья; тогда одного из них мы подготовим к дипломатическому поприщу, другого сделаем сельским хозяином, а третий пусть идет в духовное звание; но старший должен идти по стопам отца и деда, поступить в военную службу, — это самое лучшее призвание».
Так мы на том и порешили. Двух месяцев от роду Руру был произведен нами в ефрейторы. Ведь назначают же всех крон-принцев, тотчас по рождении, шефами полков, почему же и нам было не наградить своего крошку воображаемым чином? Такая игра «в солдатики» с нашим карапузиком сделалась для нас любимой забавой. Арно отдавал ему честь, когда мамка вносила его в комнату. Кормилицу мы прозвали маркитанткой; что же подразумевалось у нее под именем провиантского магазина, предоставляю отгадать читателю.
Когда Руру плакал, мы говорили: «тревога!» А что обозначало: «Руру сидит на плац-параде», также не трудно понять.
Первого апреля, когда ему минуло три месяца (праздновать день его рождения только раз в год капалось нам неудобным: это давало бы слишком мало поводов к торжествам), наш мальчик был произведешь из ефрейторов в капралы. Но этот день неожиданно омрачился неприятной вестью; сердце у меня заныло, и я опять излила свое грустное настроение на листках красной тетрадки. На политическом горизонте с некоторых пор появилась пресловутая «черная точка», угрожавшая разрастись в грозовую тучу, что вызывало много толков и в прессе, и в салонах. Но я не обращала на это никакого внимания. Когда мой муж и отец говаривали в кружке военных: «с Италией у нас скоро что-нибудь да выйдет», мне и в голову не приходило, что тут дело пахнет бедой. Думать о политике, вот еще! На это у меня не хватало ни времени, ни охоты. Окружающие с жаром толковали об отношениях Сардинии к Австрии, обсуждали поведение Наполеона III, содействием которого заручился Кавур путем участия в крымской кампании; говорили и о натянутости, вызванной между нами и итальянцами этим союзом; однако я ничего не брала в толк. Между тем 1 апреля мой муж объявил мне самым серьезным тоном:
— А знаешь, дорогая, ведь нам не миновать…
— Чего не миновать, мой милый?…
— Войны с Сардинией.
Я испугалась.
— Господи, но ведь это было бы ужасно! И тебе придется выступить в поход?
— Надеюсь.
— Как ты можешь это говорить: «надеюсь»! Тебе приятно кинуть жену с ребенком?
— Но если долг велит…
— Тогда можно покориться неизбежному, но надеяться — значит желать, чтобы у тебя явился такой печальный долг.
— Печальный! Да этой войне следует радоваться. Этот поход прелесть что такое! Молодецкая, славная кампания! Будет чем потешить свою удаль. Ты — жена солдата, не забывай этого!
Я бросилась ему на шею.
— О, мой дорогой Арно, будь покоить: я могу быть и храброй… Как часто герои и героини прежних времен внушали, мне зависть своими подвигами. Какое возвышенное чувство должно наполнять сердце воина перед битвой. О, если б мне можно было последовать за тобою, сражаться рядом со своим возлюбленным мужем, победить или умереть!
— Славно сказано, милая женочка, только все это нелепость. Твое место здесь, у колыбели нашего малютки, из которого также надо воспитать защитника отечества. Ты должна оставаться у нашего домашнего очага. Вот для того, чтобы защищать его от неприятельского нашествия, чтобы обеспечить безопасное существование своим женам и детям, нам, мужчинам, и приходится воевать.
Не знаю, почему эти слова, которые я не раз слышала прежде, встречала в книгах и даже сочувствовала им, покаялись мне теперь пустою фразой… Видь никто в сущности не грозил безопасности нашего домашнего очага и перед воротами города не стояли дикие полчища варваров, было одно политическое недоразумение между двумя кабинетами… Значить, если мой муж с таким восторгом стремился на войну, то не ради неотложной необходимости защищать жену, ребенка и отечество; скорее его тянуло к интересным приключениям во время похода, наконец, он хотел отличиться, повыситься в чинах… Ну да, конечно, — мысленно решила я, — это честолюбие, понятное, законное честолюбие, жажда подвигов храбрости.
С его стороны похвально радоваться предстоящему походу, но ведь еще Бог знает, будет ли война. Может быть, все уладится мирным образом, да и в случае войны, пожалуй, моему Арно не придется выступить с своим полком. Не всю же армию двинут разом против неприятеля. Нет, судьба не может поступить со мной так жестоко и разрушить мое безоблачное, молодое счастье, которое сама же устроила на зависть всем. — О, мой милый Арно, мой бесценный муж, каково мне было бы отпустить тебя туда, где ты поминутно подвергался бы смертельной опасности. Нет, это слишком ужасно, этого не может быть. Такими и подобными излияниями наполнены страницы красных тетрадок в те дни.
Но к ним присоединяются немного позднее рассуждения иного рода: «Луи Наполеон — низкий интриган… Австрия не может долее равнодушно выносить… дело идет к войне… Сардиния не посмеет выступить против неприятеля, с которым она не в силах бороться, и непременно уступить… Мир не будет нарушен»… Очевидно, несмотря на мое восхищение битвами прежних времен, я все-таки пламенно желала мира, зато мой муж несомненно мечтал о другом. Хотя он не высказывался прямо, но всякие слухи об увеличении «черной точки» на политическом горизонте радовали его; Арно сообщал их с веселым блеском глаз, тогда как все увеличивавшиеся виды на мирный исход заставляли его хмуриться.
Отец также горячо стоял за войну. Победить пьемонтцев — да это сущие пустяки! И, в подтверждение своих слов, старик принимался сыпать анекдотами о своем излюбленном герое — Радецком. При мне о предстоящем походе рассуждали только со стратегической точки зрения; наши политики хладнокровно взвешивали шансы, толковали о том, где легче побить врага и какие выгоды произойдут от этого «для нас». Но никто не думал принимать в расчет, что всякая битва, проигранная или выигранная нами, будет стоить целого моря крови и слез. Интересы, выдвинутые здесь вперед, казалось, стояли настолько выше судеб отдельных личностей, что я стыдилась мелочности моего миросозерцания, когда у меня порою мелькала горькая мысль: «Ах, что толку в победе бедным убитым или изуродованным воинам и их несчастным вдовам?» Однако на эти робкие вопросы тотчас являлись в ответ избитые дифирамбы из учебников: «все потери вознаграждаются славой». Ну, а если победа останется на стороне врага? Я сделала, однажды это замечание в кружке моих знакомых из военного сословия. Меня, разумеется, тотчас подняли на смех. Даже предполагать возможность поражения, допускать тень сомнения на счет славного исхода кампании было предосудительно для истой патриотки. Одна из священных обязанностей солдата заключается в уверенности, что его войско непобедимо. Того же убеждения должна держаться всякая порядочная полковая дама.
Полк моего мужа стоял в Вене. Из нашей квартиры открывался великолепный вид на Пратер; стоило подойти к окну, чтобы вас охватило радостное чувство приволья. В том году весна выдалась великолепная. В теплом, воздухе носился запах фиалок; деревья раньше обыкновенного оделись свежей зеленью. Я радовалась продолжительным прогулкам в экипаже по аллеям Пратера, который устраиваются здесь в майские дни. С этой целью мы запаслись кокетливой коляской с четверкой венгерских рысаков. Уже и теперь в хорошую погоду мы объезжали их в обширном парке, но главное удовольствие предстояло впереди. Ах, только бы до тех пор не вздумали объявить войну!
— Ну, слава Богу, настал конец нашим колебаниям! — воскликнул мой муж, возвратясь девятнадцатая апреля с полкового ученья. — Ультиматум поставлен!
Я перепугалась.
— Как… что… что это значит?
— Это значит, что произнесено последнее слово дипломатических переговоров, которое предшествует, объявлению войны… Наш ультиматум требует от Сардинии разоружения; она конечно не примет подобного условия, и мы перейдем границу.
— Великий Боже! Но, пожалуй, разоружение последует, они согласятся?
— Ну, тогда мир не будет нарушен.
Я упала на колени, и не могла иначе. Из глубины моей души вырвалась немая, но порывистая, как крик больного сердца, мольба к Всевышнему. «Пошли нам, Господи, мир!»
Арно поднял меня с колен.
— Что ты делаешь, глупенькая?
Я охватила руками его шею и расплакалась. Это не был еще взрыв личного горя, потому что несчастие пока не разразилось, но известие, принесенное мужем, до того потрясло меня, что мои нервы не выдержали, и неожиданный испуг разразился обильными слезами.
— Марта, Марта, ты право рассердишь меня, — заметил Арно тоном порицания. — Я хочу, чтобы ты была по-прежнему моей милой, храброй женочкой, какую нужно военному. Разве ты забыла, что отец у тебя генерал, муж поручик, да и сын в капральском чине? — прибавил он с улыбкой.
— Нет, нет, мой Арно… Я не понимаю, что со мной творится… Это так, вдруг… Я сама люблю военную славу… Но не знаю, почему… когда ты сказал, что все зависит от одною слова, которое должно быть теперь произнесено в ответ на этот ультиматум, и это «да» или «нет» должно обречь на мученья и смерть тысячи людей… — подумай, каково умирать в эти ясные весенние дни!.. — мне сейчас же пришло в голову, что надо непременно добиться мира, и я упала с молитвой на колени.
— Ах ты, глупенькая, глупенькая! Господь знает без тебя, что Ему надо делать.
В прихожей раздался звонок. Я поспешила отереть глаза. Кто мог бы это быть так рано?
Это был мой отец. Он просто влетел в гостиную.
— Ну, дети, — заговорил старик, запыхавшись и спеша усесться в кресло, — знаете ли великую новость?… Ультиматум…
— Я только, что сообщил об нем жене.
— Скажи, папа, как ты думаешь, — несмело допытывалась и, — это может еще предотвратить войну?
— Никогда от роду не слыхивал, чтоб ультиматум предотвращал войну. Конечно, со стороны этих итальянских оборванцев было бы гораздо благоразумнее, если б они покорились и не подвергали себя неприятности наткнуться на новую Новару… Ах, не умри старик Радецкий в прошлом году, я полагаю, он пошел бы на войну во главе наших войск, несмотря на свои девяносто лет, да и сам-то я двинулся бы с ним, ей Богу!.. Уж показали бы мы тогда вдвоем, как нужно справляться с таким паршивым сбродом! Но эти льстивые крики еще недовольны полученным уроком, им хочется, чтобы их еще проучили. Ну, ладно: Пьемонтская область очень кстати расширит границы нашего Ломбардо-Венецианского королевства. Я так и вижу перед собою, как наши войска вступают в Турин.
— Однако, папа, ты говоришь таким тоном, точно война уже объявлена и ты радуешься этому. А что, если моему Арно также придется выступить со своим полком? — добавила я со слезами в голосе.
— Ну, конечно, он отправится в поход, счастливец!
— Ах, я так боюсь… эта опасность…
— Вот вздор какой! Заладила одно: опасность, опасность! Возвращаются же люди домой с войны жимы и невредимы. Я не одну кампанию сделал, слава Тебе Господи, и ранен был не раз, да вот уцелел же и дожил до старости, когда мне на роду было так написано.
Избитые фразы фаталистов! Но не то же ли самое говорили мы с моим мужем, выбирая военную карьеру для нашего первенца Руру? И в данную минуту слова отца показались мне отголоском житейской мудрости.
— Но если мой полк не будет назначен в поход… — начал Арно.
— Ах, да, — радостно перебила я, — вот еще надежда на хороший исход!
— Тогда я переведусь в другой, если окажется возможным… — добавил он.
— Чего ж тут — невозможного? — с живостью подхватил отец. — Гесс назначается главным командиром, а он мне близкий приятель.
Сердце трепетало у меня от страха, и все же я не могла не восторгаться этими двумя храбрецами. Они так весело толковали о предстоящем походе, точно дело шло о каком-нибудь пикнике. Мой отважный Арно желал выступить против неприятеля даже в том случай, когда того не требовал долг службы. Он шел на войну добровольно, а мой отец, при всем возвышенном взгляде на вещи, находил это вполне естественным. Я собралась с духом. Прочь моя ребяческая трусость слабонервной женщины! Я должна выказать себя достойной моих близких, подавить свои эгоистические опасения и помнить одно: «мой муж — герой!»
Я вскочила с места и протянула ему руки.
— Арно, я горжусь тобою!
Он прижал мои пальцы к своим губам и, обернувшись к отцу, произнес с сияющим видом:
— Ты отлично воспитал свою девочку, дорогой тесть!
* * *
Отклонен! Ультиматум отклонен! Это произошло в Турине 26-го апреля. Жребий брошен, война объявлена!
Еще за неделю я приготовилась к катастрофе, но мне было не легче от этого. Когда Арно принес роковую весть, я с горькими рыданиями бросилась на софу и зарыла голову в подушки.
Он подсел ко мне, принимаясь кротко уговаривать меня, точно обиженного ребенка.
— Дорогая моя, успокойся! Ободрись! Ведь тут нет ничего дурного… Скоро мы вернемся победителями… Тогда мы будем с тобой вдвое счастливее после разлуки. Не плачь; твои слезы разрывают мне сердце. Я почти раскаиваюсь, что обещался непременно поступить в действующую армию… Впрочем, нет! Подумай: если мои товарищи пойдут драться, по какому праву останусь я дома? Тогда ты сама стала бы стыдиться своего мужа… Надо же мне понюхать порохового дыму, побывать в настоящем огне! До тех пор я, право, не могу чувствовать себя настоящим мужчиной и солдатом. Представь себе, как славно будет, когда я возвращусь с третьей звездочкой на воротнике, а, пожалуй, и с крестом на груди? — Я положила голову ему на плечо и плакала по-прежнему. Меня обуяло малодушие: все кресты и звездочки показались мне ничего не стоящей мишурой… Даже целый десяток большущих крестов на этой дорогой груди не стоят жестокого риска, что она, пожалуй, будет пробита пулей… Арно поцеловал меня в лоб, легонько отстранил от себя и поднялся.
— Теперь мне нужно идти по делам, милое дитя… явиться по начальству. Проплачься хорошенько, а к моему приходу я надеюсь найти тебя веселой и твердой… Ты должна успокаивать своего мужа, иначе меня одолеют мрачные предчувствия. Неужели теперь, в такое решительное время, моя дорогая женочка станет отнимать у меня всякое мужество, охлаждать мой пыл? До свидания, голубка!
И он ушел. Я подавила рыдания. Его последние слова еще звучали у меня в ушах. Да, несомненно, долг повелевает мне не только не мешать ему, но по возможности поддерживать его отвагу. Только этим путем мы, бедные женщины, имеем право выказывать свой патриотизм, чтобы и нас коснулся отголосок славы, которую заслуживают, наши мужья на поле битвы… «Поле битвы»… удивительно, как поразили меня своим значением в данную минуту эти два слова! На страницах истории, в патетических тирадах, они приводили меня в экстаз, но теперь я поняла, что под ними подразумевается отвратительная человеческая бойня. «Да, на этих полях битв они будут лежать зарезанными, заколотыми, пронизанными пулями, бедные, насильно выгнанные на безобразную резню, разумные существа с кровавыми зияющими ранами, и, пожалуй, в числе их…» Эту мысль закончить отчаянный вопль, невольно вырвавшийся уменя из груди.
Моя горничная Бетти вбежала в комнату с перепуганным лицом.
— Ради Бога, что с вами, ваше сиятельство?! — спросила она, дрожа.
Я взглянула на нее; глаза у ней были сильно заплаканы. Мне все стало ясно: она узнала печальную новость, а ее возлюбленный также служил в полку. Я была готова прижать ее к груди: мы обе страдали одинаково.
— Ничего, дитя мое… — мягко отвечала я. Люди уходят в поход, но и возвращаются обратно…
— Ах, ваше сиятельство, но нет… не все!..
И она снова залилась слезами.
Тут ко мне приехала тетка; Бетти удалилась.
— Я поспешила к тебе, Марта, чтобы утешить тебя, — сказала старушка, бросаясь мне на шею, — а также, чтобы, напомнить о покорности воли Божией в часы испытаний.
— Так ты уже знаешь?
— Весь город знает, душа моя… Везде идет громкое ликованье: эта война ужасно популярна.
— Ликование, тетя?
— Ну да, конечно, в тех семьях., которые не провожают в поход никого из своих близких. Я знала, что тебе тяжело, и поспешила сюда. Твой папа тоже сейчас приедет, но не для того, чтоб утешать, а чтобы поздравить: он вне себя от радости. По его мнению, Арно представляется прекрасный случай отличиться. В сущности это, разумеется, справедливо… для солдата война — первое дело. И тебе следует смотреть на вещи теми же глазами; долг службы — прежде всего, мое милое дитя. Чему быть…
— Того не миновать. Знаю, дорогая тетя. От судьбы не уйдешь…
— От воли Божией… — поправила меня старушка тоном легкого упрека.
— И человек должен переносить неизбежное с твердостью и покорностью судьбе.
— Отлично, Марта. Помни, что все предопределено заранее мудрым и всеблагим Промыслом; пути Господни неисповедимы. Час смерти каждого человека записан в час его рождения. Мы же с тобой станем горячо молиться за наших дорогих воинов…
Я не стала указывать ей на вопиющее противоречие между двумя убеждениями: будто бы смерть человека назначена заранее и будто бы ее в то же время можно отвратить молитвой. Я сама не понимала этого хорошенько, да к тому же меня приучили с детства не мудрствовать лукаво в вопросах веры. Коли б я высказала мое замечание, оно сильно обидело бы тетку. Она не могла выносить, чтоб кто-нибудь выражал сомнение в известных истинах. Да и вообще ко всему непостижимому принято относиться с благоговением, считая его недоступным нашему слабому разумению. Как придворный этикета запрещает обращаться с вопросами к государю, так же не допускается и критическое отношение к установленным догматам. Да и самая заповедь: «не мудрствуй понапрасну» очень легка для каждого. Опираясь на нее, я не стала спорить с теткой, а, напротив, ухватилась за утешение в молитве, о котором она мне напомнила. В самом деле, во все время отсутствия Арно я буду горячо молиться, за него, так горячо, что моя мольба отвратит от него вражеские пули… Отвратит? Но куда? В грудь другого воина, за которого также молятся его близкие?… А то, что я проходила в курсе физики о законах движения тел? Ну, вот опять несносные сомнения! Нет, нет, прочь эти неотвязные мысли!
— Да, тетя Мари, — громко сказала я, желая положить конец противоречиям, осаждавшим мою голову, — будем усердно молиться, и Господь услышит нас: Арно останется невредим.
— Вот видишь, дитя, как в тяжелые минуты наша душа обращается к религии… Может быть, милосердый Создатель посылает тебе такое испытание с тем, чтобы ты сделалась набожнее.
Тут опять, как на зло, я сейчас же усомнилась, чтобы возникшие с крымской войны недоразумения между Австрией и Сардинией, продолжительные дипломатические переговоры между кабинетами, постановка ультиматума и его отклонение могли происходить с единственною целью исправить меня от равнодушия к религии.
Но я опять воздержалась и не высказала ничего. Когда человек примется уснащать свою речь ссылками на священное Писание, его слова невольно проливают бальзам на больную душу. Их надо слушать, а не критиковать. Что же касается упрека в моей холодности к вере, то он был отчасти справедлив. Тетя Мари была женщина истинно набожная, тогда как я придерживалась больше внешней обрядности. Ни мой отец, ни муж не были людьми религиозными, а потому и не требовали от меня богомольности. Кроме того, я никогда не могла с жаром углубиться в церковные учения, так как, вникая в них, мне вечно приходилось придерживаться принципа: «не рассуждать». Впрочем, я каждое воскресенье посещала церковь и раз в год бывала на исповеди, серьезно и с благоговением исполняя священные обряды. Но все это совершалось мною скорее из приличия, потому что так требовалось, а не из усердия. Как выдержанная светская женщина, я привыкла во всем подчиняться обычаю и так же неукоснительно посещала церковь в положенные дни, как появлялась на придворных балах и делала низкие реверансы при входе императрицы в залу. Капеллан нашего замка в нижней Австрии и нунций в Вене не могли ни в чем меня упрекнуть, но обвинение тетки все-таки было основательно.
— Да, дитя мое, — продолжала она, — в счастье и благополучии человек легко забывает Бога; — но когда нас посетить болезнь или наступит опасность для нас самих, или еще хуже — для наших близких, когда мы удручены горем и заботой…
Старушка, вероятно, долго распространялась бы на эту тему, но тут шумно распахнулась дверь, и в комнату влетел мой отец, весело крича:
— Ура! Наконец-то дождались! Льстивым кривлякам захотелось, чтоб их еще раз вздули хорошенько? Ну, что ж, и вздуем, и вздуем!
Произведения
Критика