В зеркале реалистической фантастики Амброза Бирса
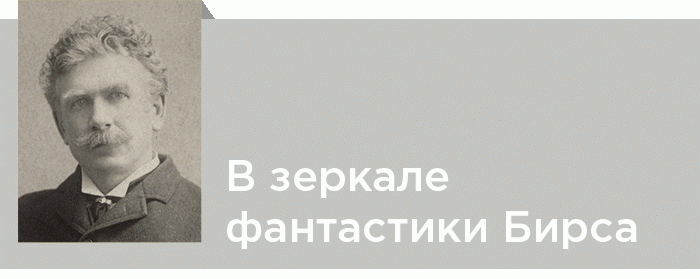
П.С. Балашов
Лучшие, художественно совершенные новеллы Амброза Бирса выдержали испытание временем.
Рассказчик у Бирса наделен оригинальным художественным мышлением; ему свойственно острое восприятие трагичности бытия, разочарование в американской действительности, скептический взгляд на жизнь. В стиле «горького Бирса» ощутимо воздействие традиций сумеречной романтической фантастики Эдгара По, пристрастие к жанру «страшного» рассказа. «Бирс многому учился у По, — справедливо пишет Ван Вик Брукс, — но в особенности искусству композиции и лаконизму. Предпочитая игру воображения наблюдениям над повседневностью, он считал, что романтика составляет «важнейшую и неизменную особенность» художественной прозы, в то время как реалистический роман — явление «случайное и преходящее» <...> Бирсу был чужд Генри Джеймс, а в особенности — Уильям Хоуэлс, в творчестве которого он видел лишь подобие репортажа и возводимое в добродетель отсутствие поэтического воображения, «Даже малоинтересное в жизни становится интересным в литературе» — эта мысль Хоуэлса, считавшего, что развитие реализма проистекает из усиления интереса людей к жизни друг друга, оставалась чуждой мизантропически настроенному Бирсу, для которого, по его словам, существовал «золотой круг искусства... свет и тени страны-фантазии». Именно таким был мир любимых Бирсом арабских сказок «Тысячи и одной ночи», но сам он теснее, чем кто-либо из американских писателей после По, примыкал к направлению «фантастического реализма», если использовать выражение Достоевского».
Игра воображения Бирса была тем более плодотворной, чем чаще оно приникало к живительным потокам действительности. Бирс пытливо всматривался в жизнь, о чем свидетельствуют его фантастические новеллы и афористический «Словарь сатаны». В гротескно-парадоксальной форме здесь обобщены проницательные наблюдения писателя над драматическими превратностями и контрастами американской жизни.
Критический взгляд создателя «Словаря сатаны» правдиво, проницательно освещает многие стороны структуры американского общества, эфемерность «американской мечты» о равных возможностях, зыбкость нравственных установлений.
«Трафаретные понятия, с незапамятных пор превратившиеся в стертую ходячую монету обывательской морали, по справедливому определению А.А. Елистратовой, приобретали в этом необычайном словаре новый иронический блеск. Каждое определение превращалось в острую эпиграмму. Бирс был беспощаден к священным кумирам буржуазной нравственности».
Меткие афористические сентенции «Словаря сатаны» — путеводная нить к правильному пониманию мировосприятия художника и особенностей его сатирической фантастики, его реализма и жестокого юмора.
Юмор Бирса ядовит, сокрушителен, беспощаден. В какой-то мере он воспринял черты жестокого, необузданного юмора Дальнего Запада, сказавшегося в творчестве целого ряда американских писателей. В стиле Бирса-рассказчика, в тех интонациях, с какими он развертывает зловещую картину действительности или фантастическую историю, можно заметить типологически общие черты, сближающие его с гротескной манерой раннего Твена, с традициями Эдгара По. Повествуя о проявлениях дикого своеволия, о насилии над человеческой личностью («Сальто мистера Свиддлера» и т. п.), об убийствах ближнего своего («Несостоявшаяся кремация»), повествователь внешне сохраняет ледяное спокойствие. Точно все то, что совершается перед глазами, — самое необычное, из ряда вон выходящее — обычная житейская норма, самый что ни на есть заурядный порядок вещей.
Внимательно присматриваясь к системе образов Бирса, к его контрастным сопоставлениям, обнаруживаем, на чью сторону склоняются симпатии и антипатии писателя.
Обращаясь к образам прошлого, к истории освоения Дикого Запада, рассказчик с большей симпатией относится к отважным покорителям американских лесных дебрей, чем к их потомкам. Он видит в пионерах естественных детей природы, не затронутых духом стяжательства. Таков в его представлении Чарльз Марлоу, герой трагического рассказа «Глаза пантеры». «Чарльз Марлоу, — подчеркивает рассказчик, — принадлежал к совершенно исчезнувшей в нашей стране категории людей: к пионерам лесов, людям, считавшим наиболее приемлемой для себя обстановкой лесные просторы, тянувшиеся вдоль восточных склонов долины Миссисипи от Больших озер до Мексиканского залива. Более ста лет эти люди продвигались на запад, поколение за поколением; вооруженные ружьем и топором, они отвоевывали у природы и диких ее детей то там, то здесь уединенный участок земли под пашню и почти немедленно уступали его своим менее отважным, но более удачливым преемникам. В конце концов они пробивались сквозь леса и исчезали в долинах, словно проваливаясь в пропасть. Пионеров лесов уже не существует: пионеры равнин — те, кому выпала более легкая задача за одно поколение покорить и занять две трети страны, — принадлежат к другому, менее ценному разряду людей».
Силу привязанности, цельность, неподдельную искренность естественного чувства выделяет рассказчик в строе семейных отношений пионеров леса, как черты вполне закономерные и типичные. Он повествует о них без той саркастической усмешки, которая так характерна для его стиля. Прокладывая пути в лесных дебрях, пионеры знали, что такое тяжесть труда, но не знали неудержимой погони за выгодой. Таков образ жизни Чарльза Марлоу и людей, подобных ему; таковы его «семейные добродетели». «Опасности, труды и лишения той непривычной, не сулившей выгод жизни в лесной глуши разделяли с Чарльзом Марлоу его жена и ребенок, к которым он, как это свойственно было людям его класса, свято чтившим семейные добродетели, питал страстную привязанность».
В скупой, скульптурно-выразительной форме рассказчик поведал, как велико было человеческое горе старика Марлоу, потерявшего сначала жену, а затем и свою «несчастную дочь». О трагической гибели его дочери Айрин говорила «источенная непогодой плита на деревенском кладбище, и немало лет об этом повествовала склоненная фигура и изборожденное горем лицо старика Марлоу...»
Два-три штриха, и возникает трагический облик старика, сраженного горем. С большим психологическим мастерством новеллист изображает подобные душевные потрясения.
Бывший волонтер, военный топограф, Амброз Бирс в жанре военного рассказа воскрешает в тонко увиденных подробностях реальную атмосферу сражений времен Гражданской войны. Воссозданием тягот военной страды, верным пластическим рисунком, чеканностью скупой формы выделяются прежде всего новеллы «Офицер из обиженных», «Убит под Ресакой» и, конечно, «Случай на мосту через Совиный ручей» — новелла эпохального значения.
Рассказчик не склонен идеализировать войну. Война для него — это тягостный труд солдата, это потоки людской крови. Бирс как бы смотрит на поле сражений глазом опытного топографа. Он видит, выгодно или невыгодно расположилась часть, умело или неумело используют солдаты каждую складку местности. Он знает, что солдаты ни в коем случае не хотят быть поверженными «железной метелью», но война есть война, и многим не удается избежать смерти.
Четкая композиция новеллы «Офицер из обиженных» ведет к выявлению всей сложности морально-психологической ситуации и вытекающих из нее роковых последствий. Бирс подвергает героя, командира батареи капитана Рэнсома, жестокому искусу. Рэнсом — хороший, храбрый офицер, способный самостоятельно принимать правильные решения. Генералу Камерону неприятна эта гордая независимость офицера, он хочет поставить его на место. Прямолинейный приказ генерала, особенно его высокомерный тон, составляет острую завязку: «Капитан Рэнсом, — заявил генерал Камерон, — вам не полагается знать ничего. Ваше дело — исполнять мои приказания, и, разрешите, я их повторю. Если вы заметите какие бы то ни было передвижения войск впереди вашей батареи, открывайте огонь, и, если вас атакуют, удерживайте эту позицию насколько возможно дольше. Вы меня поняли, сэр?»
Подобные тирады оскорбляют самолюбивого артиллериста. Прощаясь с генералом, капитан Рэнсом, подчеркивает рассказчик, берет под козырек медленно, серьезно и до крайности церемонно, всем своим видом выражая обиду. Писатель находит яркие штрихи, чтобы подчеркнуть крайнюю степень внутреннего возмущения командира батареи; он точно окаменел в безмолвии, подобно конной статуе. Приказ генерала делал командира батареи «оловянным солдатиком», который должен механически выполнять то, что ему приказано. С офицера как бы снимали всякую ответственность за исход боя.
На фоне сражения ясно вырисовывается отрешенная фигура одинокого капитана, погруженного в тяжелое раздумье. В моральном плане он делает ложный и ничем не оправданный шаг, не желая отменить приказ и прекратить обстрел, когда выясняется, что под убийственным огнем его батареи находятся свои части. В этой критической ситуации он напоминает лейтенанту Прайсу, предложившему прекратить огонь, о субординации, в точности повторяя слова генерала.
В мягком, элегическом тоне повествует Бирс о трагическом финале офицера, не сумевшего найти достойный выход из морального тупика.
Развязка новеллы — до крайности обостренная, трагическая ситуация: капитан Рэнсом, в сущности, вынес смертный приговор самому себе. Обиженный лейтенант Прайс не подтвердил на следствии, что он что-либо знает о приказе свыше, согласно которому действовал капитан Рэнсом. В жестоких словах лейтенанта капитан услышал равнодушный голос судьбы, возвещавший его бесславный конец. «Он слышал, как падает земля на крышку его гроба и (если будет на то милость всевышнего) как птица поет над забытой могилой. Спокойно отцепив шпагу, он передал ее начальнику полевой жандармерии».
В рассказе «Убит под Ресакой» дан живой портрет вызывающего симпатии офицера. Рассказчик стремится понять, что побуждает его порой безрассудно рисковать своей жизнью. Герман Брэйл — действительно храбрый человек, он готов выполнить любое рискованное поручение, точно опасаясь, что кто-либо упрекнет его в трусости. Герман Брэйл явно рисковал своей жизнью, но совсем не потому, что хотел погибнуть на поле брани. Были какие-то другие мотивы, заставлявшие его действовать так, а не иначе. Рассказчику удается пролить свет на тайну поведения героя — после его смерти. Герман Брэйл никак не хотел уронить себя в глазах любимой женщины. Именно она писала ему, что «легче перенесла бы известие о смерти героя, чем о его трусости».
Рассказчику у Бирса совершенно чуждо проявление какой-либо сентиментальности. Он по-военному подтянут, суховат, порой беспощадно ядовит, желчен и саркастичен! Но здесь его симпатии и сочувствие на стороне павшего героя, о гибели которого он поведал с явным сожалением. Тон его повествования уважителен и печален. Герман Брэйл пал в бою, и даже противник прекратил стрельбу: на его стороне послышались звуки флейт и приглушенный барабанный бой — играли траурный марш.
За первым кульминационным моментом повествования — моментом гибели героя — следует второй: заключительная сцена встречи рассказчика в прекрасном особняке на Ринкон-хилле с красивой, хорошо воспитанной мисс Менденхолл. Рассказчик, решивший вернуть обагренное кровыо героя письмо, не видит и следа душевного потрясения и боли. Священное даже для него письмо человека «самого верного и храброго сердца» брошено в камин — Мэриен не переносила вида крови. Вот почему на вопрос мисс Менденхолл, как погиб лейтенант Брэйл, был дан лапидарный, но убийственно-саркастический ответ: «Его укусила змея».
Заключительные аккорды в новеллах Бирса всегда полны огромной эмоциональной силы, донося то скорбь утраты, то, как в данном случае, гневное возмущение и презрение. Спрашивая о том, как погиб герой, мисс Менденхолл, «повернула голову и слегка закинула ее. Отсвет горящего письма отражался в ее глазах, бросая ей на щеку блик такой же алый, как то пятно на странице. Я в жизни не видел, — заключает рассказчик, — ничего прекраснее этого отвратительного создания».
Суровый Бирс увидел душевную щедрость, красоту и человечность героя и — по контрасту с этим — безмерный эгоизм и черствость внешне прекрасного, но по сути отвратительного существа.
Исследуя в военных рассказах тему смерти, Бирс каждый раз находит новые ракурсы, новые вариации, нисколько не смягчая суровости общего колорита новелл и их трагедийного звучания. Взгляд одних героев перед смертью оцепенело прикован к давно минувшим дням и образам, возникающим сегодня как реальные, живые («Заполненный пробел»); в сознании других перед неизбежной смертью еще теплится надежда, что каким-то чудом ее удастся избежать, и вихрем проносятся динамичные картины спасительного исхода («Случай на мосту через Совиный ручей»). Но чуда не происходит: смерть настигла плантатора Пэйтона Фаркуара в тот момент, когда ему казалось: он достиг цели и увидел жену — «воплощение непревзойденной красоты и благородства!»
Рассказчик несомненно обладает искусством то как бы растягивать время действия до бесконечности, то сжимать его до одного мгновения, с покоряющим психологизмом запечатлевая необоримую жажду жизни героя.
Концовка новеллы предельно лаконична: «Пэйтон Фаркуар был мертв; тело его, с переломленной шеей, мерно покачивалось под стропилами моста через Совиный ручей».
Бирс внимательно следил за развитием военной темы в американской литературе. Его суждение о романе Стивена Крейна «Алый знак доблести», проницательное по существу, вместе с тем характерно для его подхода к теме войны: «Этот молодой человек, — писал Бирс, — наделен даром чувства. Он ничего не знает о войне, и тем не менее он утопает в крови. Большинство начинающих писателей, пишущих о войне, в основном купаются в чернилах».
Военные рассказы Бирса своим реалистическим освещением войны, очевидно, подготавливали почву для появления таких романов, как «Алый знак доблести».
В рассказах Бирса о необычных человеческих судьбах просматривается реальность Америки. Свои наблюдения над укладом жизни и моральными устоями именитых граждан разных городков писатель художественно претворил в произведениях сатирического накала, стремясь вывести на чистую воду добродетельного филистера, развенчивая жестокость и душевную черствость «сладкоречивых, состоятельных джентльменов» («Проситель», «Наследство Джилсона»).
Новелла «Проситель» воспринимается как злая пародия на умильный «святочный рассказ»: герой остро нуждается в человеческом участии и помощи, но не находит их. Все совершающееся в рассказе — ироническая антитеза исконным заветам христианского милосердия. Именитые, процветающие люди Грэйвилла в жизни следуют не провозглашенному ими принципу: «Просите, и отворят вам», а скорее прагматической жизненной «мудрости»: «Просите, и дверь захлопнут перед вашим носом». В подобной драматической ситуации оказался герой рассказа грэйвиллский филантроп Амос Эберсаш. Замерзнуть в канун рождества близ созданного им самим «Убежища Эберсаша для престарелых», близ дома, в который его не пустили... Это ли не подлинно американская трагедия?
Мастер сатирического портрета, Бирс выводит старшего смотрителя убежища мистера Сэйласа Тилбоди в гротескно-иронических тонах: «Мистер Тилбоди был преисполнен чувствами, приличествующими этой поре года, и его мясистое лицо и белесые глаза, слабый блеск которых только и помогал отличать эту физиономию от перезрелой тыквы, сияли таким теплом, что мистеру Тилбоди, право, не мешало бы понежиться в лучах, исходивших от его собственной персоны». Откровенная язвительность рассказчика, удачно находящего яркие сатирические штрихи, высвечивает подлинный облик самых «добродетельных» и самых видных «джентльменов» городка.
Эпический зачин и трагический финал составляют единое целое: в тот момент, когда в рождественское утро особенно рьяно названивают колокола Грэйвилла, розовощекий сынок преподобного Байрэма наталкивается на труп замерзшего грэйвиллского филантропа Амоса Эберсаша, мольбы которого о помощи не были услышаны в мире фальшивого благочестия.
Было бы отступлением от истины игнорировать реальную основу трагикомических происшествий в новелле «Наследство Джилсона», ярко воссоздающей климат «позолоченного века», корыстные вожделения времен «золотой лихорадки». Где бы ни развертывались события рассказа — в Ныо-Джерузалеме или Маммон-Хилле (названия городов таят в себе многозначительный подтекст), всюду под личиной истинного благонравия властвует дух стяжательства.
Трагикомизм ситуации в том, что после повешения жулика и вора Джилсона, оказавшегося очень богатым, поднимаются голоса в его защиту; он — теперь достойный джентльмен, в честь которого на кладбище воздвигается великолепный памятник. Бирс остроумно использует традиционный мотив борьбы за наследство, в данном случае не в пределах семьи, а в пределах всего Маммон-Хилла.
Самая неблаговидная роль выпадает на долю мистера Брентшоу, уличившего Джилсона в конокрадстве, что и привело того на виселицу. Согласившись стать «законным душеприказчиком» повешенного Джилсона, он попал в ловушку. По условиям завещания ему лишь тогда удастся отстоять наследство, когда он докажет безусловную честность Джилсона. Он делал все, чтобы обелить, возвеличить мошенника и вора. Таков духовный облик одного из представителей элиты Маммон-Хилла — города, символизирующего собой безудержную корысть. Смерч алчности здесь влечет за собой моральные опустошения: «нравственное чувство умерло, общественная совесть притупилась, сознание было принижено, ослаблено и затуманено. Но мистер Брентшоу торжествовал победу». Эта победа, как подчеркивает рассказчик, творящий строгий суд над Маммон-Хиллом, досталась дорогой ценой: она иссушила душу мистера Брентшоу.
Реальная история о нравственном падении Генри Брентшоу закономерно завершается фантастическим гротеском. В сознании погрязшего во лжи Брентшоу темной ночью на кладбище возникает призрак покойного. Но это призрак человека с былыми повадками вора: «...нетленный дух Милтона Джилсона промывал прах своих ближних и, как запасливый хозяин, присоединял к своему собственному».
В финале «Наследства Джилсона» сильно звучит характерный для Бирса минорно-трагедийный мотив. Парадоксальный поворот сюжета раскрывает всю смехотворность попыток Генри Брентшоу оправдать то, что оправдать невозможно. Он предстает как человек с оскудевшей душой и погасшим умом. Фантастическое подчеркивает удручающую реальность действительного: «...когда солнце нового дня, — гласят заключительные строки трагикомедии, — позолотило разрушенное маммон-хиллское кладбище, самый последний из его лучей упал на бледное лицо Генри Брентшоу, мертвеца среди мертвецов».
Ирония Бирса дает читателю ключ к рациональному объяснению причудливых ситуаций, например появлений привидений, наводящих страх. В «Словаре сатаны» Бирс писал, что «привидение — внешнее и видимое воплощение внутреннего страха».
В зеркале фантастики Бирса своеобразно преломляются социальные контрасты Америки; ее истоки уходят корнями в социальную почву.
Честный и отважный, Бирс сталкивался в жизни лицом к лицу с хищниками самого крупного калибра (типа Колиса Хантингтона, своекорыстно использовавшего казенную ссуду при строительстве Центральной Тихоокеанской железной дороги), и он мужественно выступал против рыцарей наживы «позолоченного века». И в «Словаре сатаны», и в жанре фантастического «страшного» рассказа он увековечил деяния людей подобного типа.
Максим Горький в свое время писал о судьбе Эдгара По как об одном «из тех романтиков-фантастов, чей разлад с жизнью делал их существование трагическим».
Отчужденность Бирса от американской действительности подобна разладу с жизнью Эдгара По; это сужало горизонты талантливого мастера, но Бирсу был чужд «грюндерский дух», он остро ощущал трагическое одиночество.
«Магический кристалл» — так определил Джек Лондон редкостное дарование Амброза Бирса. Художник ясно видел и афористично выразил в своем творчестве парадоксы американского «просперити». Бирс по праву занял свое место среди классиков американской литературы конца XIX — начала XX в. Все лучшее, что он оставил, и поныне сохраняет свою художественную ценность.
Традиции Бирса, традиции жанра «страшного» рассказа, то угасали, размениваясь на мелкую монету массовой литературы, то возрождались вновь, в новом качестве, в творчестве крупных мастеров литературы США.
«После Бирса жанр страшного рассказа претерпел глубокое снижение, — отмечал И.А. Кашкин в своем блестящем этюде о Бирсе. — Рассказы По и Бирса послужили образцами, более того — штампами для массового производства подобных рассказов на потребу сотен журналов <...> В большой литературе США «страшный» жанр возродился в новом аспекте и с обновленной техникой уже в наши дни в новеллах Фолкнера, Хемингуэя и в некоторых вещах Колдуэлла. Жизнь подсказала им новые аспекты ужаса (у Колдуэлла и новое отношение к ним), тем возродив этот... жанр».
Л-ра: Балашов П. С. Писатели-реалисты ХХ века на Западе. – Москва, 1984. – С. 192-202.
Произведения
Критика
- В зеркале реалистической фантастики Амброза Бирса
- Сан-Франциско и Амброз Бирс
- Философская основа политических воззрений Эмброза Бирса














Поділитися