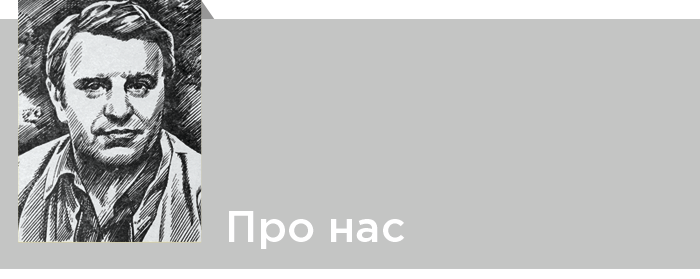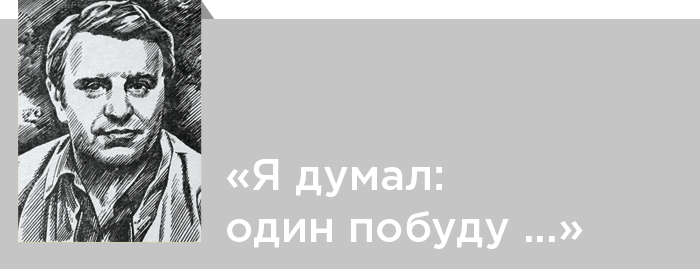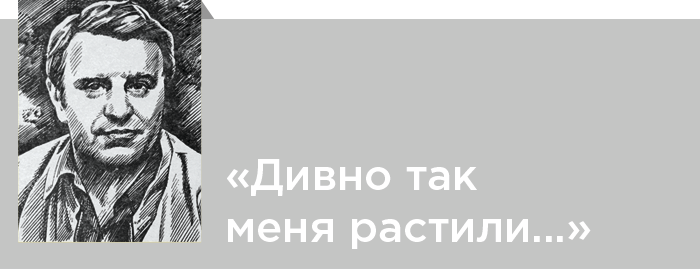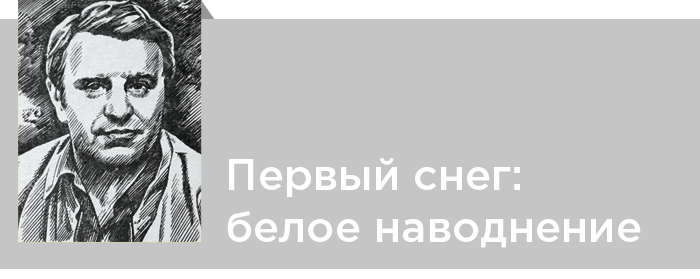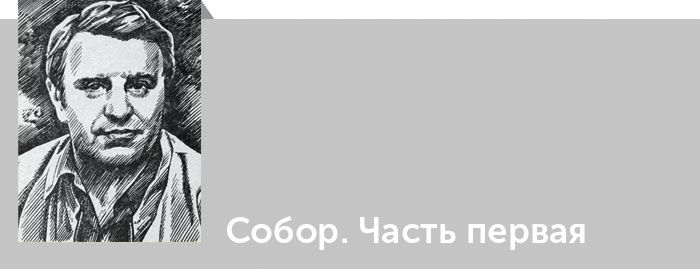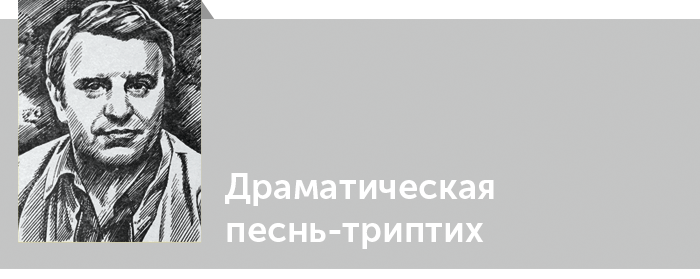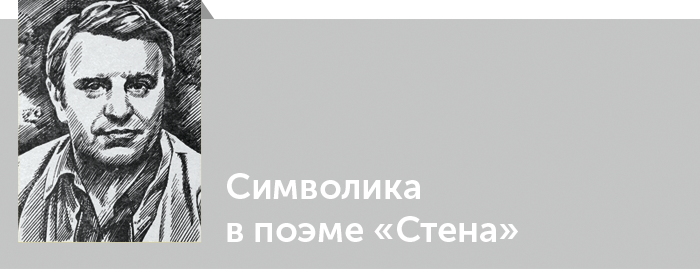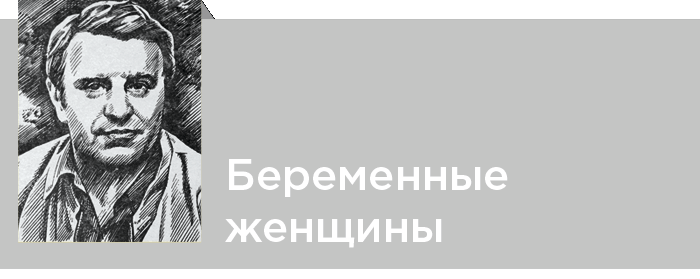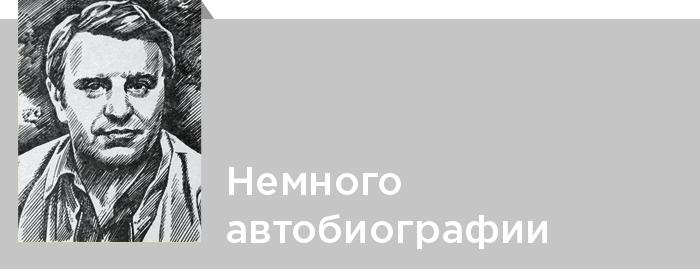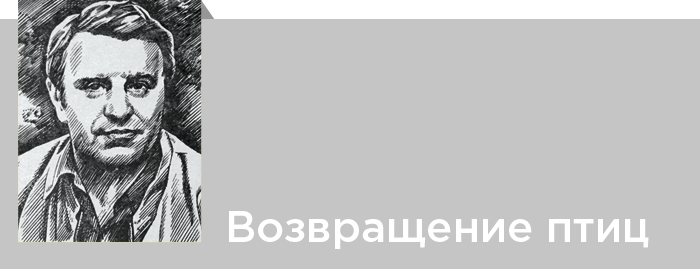Дух и архитектура «Собора» и волны лирики
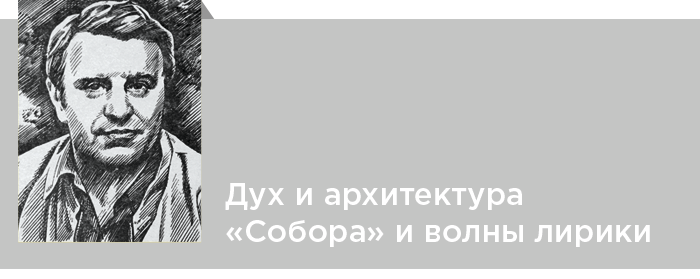
Чтение «Собора» радует уже и потому, что вызывает высокие и несколько забытые нами историко-литературные образы. Автор и переводчик представили нам материал, ведущий на авансцену тени Шекспира, Пушкина, Гете как автора «Фауста», Мицкевича, французских и литовских драматически-поэтических классиков; нет нужды объяснять, насколько интересны сейчас такие традиции, ассоциации, само ощущение такого типа творчества. Мы, отчасти уже привыкшие к деловитой прозе или к слишком специализированной, профессионализированной поэзии, вдруг вновь вспоминаем, что есть в искусстве философско-возвышенное начало, что есть поэзия широкого полета, духовного простора. При этом в тексте присутствует оригинальный оттенок, состоящий вот в чем. Исторический материал, даваемый Марцинкявичюсом, вероятно, тяготеет к шекспировскому типу и соответственной стилистике; перевод же Д. Самойлова по своей словесной фактуре тяготеет скорее к пушкинскому началу— более строгому, стройному, менее «грубому», экспрессивному, романтическому. Учитывая общий характер поэзии самого Д. Самойлова, это естественно. Такой дополнительный внутренне-стилистический контрапункт сообщает словесной ткани «Собора» добавочную стереоскопичность:
Зачем я здесь? Чего я здесь хотел?
Полюбоваться на ее мученья?
Или утешить? Чем утешить? Ложью?
Недаром говорят, что душегуба
Влечет увидеть жертву... Вот и я
Вернулся... здесь тот склеп, откуда к небу
Взывает грех мой о возмездье правом!
О господи, ты покарал меня
Всего ужаснее — не покарав.
Оставил жить, страдать. Как все на свете...
Проблематика этого произведения, как того и требует сам жанр стихотворной драмы, трагедии, тоже возвышенна и торжественна. Здесь ставятся различные последние вопросы человеческого бытия и истории. Наиболее очевидный из них связан с двумя главными противостоящими персонажами. Герои «Собора» — зодчий Лауринас и архиепископ Масальский, олицетворяющий собою духовную и светскую авторитарность накануне гибели феодального строя. Как и следует ожидать, отношения их неоднозначны; Масальский достаточно умен, Лауринас достаточно стихиен и неровен в своем поведении и замыслах, чтобы образовался клубок противоречивых страстей. К этому, конечно, добавляется любовная коллизия: оба любили женщину, мать сына Масальского. Последний не прочь приласкать Лауринаса, если тот будет заниматься своим делом и не лезть в чужие дела; Лауринас, в свою очередь, как беспокойный и чуткий творец, делая свое дело, при этом только и успевает, что вмешиваться в чужие дела, и не может распутаться с этим.
Однако если бы ситуация ограничивалась этими традиционными коллизиями, все было бы проще; но Марцинкявичюс стремится прозреть логику жизни дальше банальной дилеммы феодального государства и свободного искусства.
Следуя букве истории, а может быть, при этом отчасти размышляя, например, и над опытом «левого» искусства XX века, поэт ставит вопрос о прямом участии художника в современной ему бурной политике, притом политике романтической, но внутренне не подготовленной. Этим последним обстоятельством Марцинкявичюс, конечно, несколько облегчает себе задачу, чем, может быть, и объясняется некоторое «провисание», зияние во второй половине произведения: все слишком ясно заранее и автору и нам; нет того напряженного «равновесия диких», спонтанных сил, которыми поражает нас, например, Шекспир в своих третьих — пятых актах. Марцинкявичюс, как и всякий серьезный деятель возвышенного искусства, чувствуется, все время ощущает потребность в том композиционном равновесии добра и зла, взятом с тайной позиции добра, которым и отличается такое искусство; но расстановка сил слишком предрешена. Лауринас, которого посетило дивное видение — будущий вильнюсский собор, вскоре, как это бывает с художниками, временно отходит от своего замысла душой, забывает о своем назначении и погружается в бытовые и социальные страсти, связанные с подготовкой восстания.
Неопытный в этой сфере, он тут же начинает попадать в разные драматические и постыдные положения; то Масальский щадит его талант, но казнит его товарищей, и на этом основании бунтующие сограждане обвиняют его в предательстве; то, наоборот, он становится во главе самых бунтующих, но ведь восстание заведомо не подготовлено и обречено, и Лауринас знает об этом; кроме того, сам народ еще не совсем ведает, что творит,— и тут встает третья проблема «Собора». Она связана не только с традиционным «личность — народ», но и с пушкинским «народ безмолвствует».
Вовсе не модернизируя самое историю и стараясь просто добросовестно понять, что же происходило в Литве на рубеже XVIII—XIX веков — на рубеже феодализма и новой эры, о чем и сам предупреждает в предисловии, поэт говорит о трагедии народа, застигнутого европейскими (Французская революция) ветрами в те времена, когда сам он еще только готовился к новым ветрам. Итогом было преждевременное восстание, раскол самого народа, усталость, разочарование, проникшие внутрь его, и — поражение после самой победы.
Итак, Лауринас?
Он одинок, он — на грани гибели; впрочем, гибнет и умный его враг-покровитель — Масальский; но Собор — символ родины — Собор будет, он уже вот, въяве, и в этом ныне — смысл жизни; и одинокий живой ребенок играет у паперти — ребенок, неизвестно чей сын: то ли крестьянки, надрывно причитающей у Собора над погибшим, то ли — самой героини, пережившей такое же горе; важно, что он есть, он жив, что он символизирует будущее.
Вообще-то, в таких вот символах заметна и некоторая слабость: символ слишком ясен; в нем слишком просматривается дно. В этом отношении «Миндаугас», предшествовавший «Собору», был более плотным и плотским; а, например, в поэме «Стена» символ тоже чрезмерно прозрачен.
Повышенная символичность вообще присуща литовской поэзии, и в частности эпической поэзии Марцинкявичюса; в принципе, это — черта стиля, а не промах его. И тут литовцы не одиноки в нынешнем литературном мире; достаточно вспомнить латиноамериканскую прозу, драматургию, японский роман, чтобы увидеть тот же прием (хотя и иначе направленный). У нас — армянские, молдавские прозаики, грузинское кино... Порыв к синтезу, стремление освоить главную закономерность жизни — вот откуда это.
Но бурна, сложна жизнь, и простая символика не всегда справляется с этой сложностью.
В «Соборе» чересчур много проблем, чтобы их можно было свести в одну точку; конечно, тут можно бы сказать, что не надо было их брать столько; но Марцинкявичюс прав, что он взял, что он дерзает; но просто он здесь столкнулся с той величайшей трудностью условнопоэтического искусства, которая заключается в соединении повышенной духовности его с ощущением целостности, органической спонтанности, имманентности жизни; искусство бытовое легко выходит из этой коллизии — оно сохраняет органичность, но за счет полета и духа; с другой же стороны есть опасность абстракции и того просчета, который состоит в подмене органичности «синтезом», то есть именно сопряжением извне неких отдельно взятых начал, «проблем». При органичности проблемы сами встают из текста; при «синтезе» они все-таки ощущаются не как химическое целое, а как ткань со швами. И поэт отчасти не избежал этой трудности; он и сам не хочет постановки «точек» — не дает тезисных, однозначных ответов на те вопросы давней истории, которые прошли перед нами; да и какие однозначные ответы могут быть на эти вопросы о «духе и действии», столь актуальные ныне для нас в истории, на вопросы о народе и его победе как самой победе и как пути к будущему, до которого было еще 200 лет? Но все-таки есть оттенок соблазна, и вот — перед нами символы: собор; играющее дитя.
Сводит ли это композиционные концы?
Может быть.
Но хотелось бы и той мощной конкретности в самой возвышенности, которая уже не нуждается во внешней символике; которая, кстати сказать, проявилась бы и в самой стилистике, в «языке»,— местами грешащем хотя и эмоциональной, и возвышенной, но все же — риторикой, особенно в психологически напряженных, «надрывных» местах. Здесь поэт «забывает», что искусство, как и всякая духовная деятельность, тоже не только восклицает, но и расчленяет, в самой своей органичности; он боится той условности, которая является непременной чертой им же принятого стиля. У Шекспира Ромео, прежде чем войти на балкон к любимой, произносит монолог, где подробно описывает свои чувства; именно такая условность возмущает в Шекспире Толстого, но каждому свое. Шекспир действует по законам поэзии, а они по-своему жестки и непреложны; «Собор» живет по тем же законам, но местами есть нарушения — срыв воли, невыдержанность стиля. Бытовая правда вскрика и выкрика не всегда становится правдой искусства:
Скажите, как же уберечь Собор,
Пускай обманный, пусть самообманный,
Как уберечь его от страшных сил?
От угнетения и от насилья...
Ха-ха! Шутник! Сказал бы лучше, как
От самого себя сберечь мечту,
Любовь и веру, собственную правду...
Мысли верные, но недостаточно поэтически выраженные. Причем видно, что дело здесь в авторе, а не в переводчике. Ю. Марцинкявичюс в последние годы в возвышенно-поэтической форме пристально исследует историю родного народа и попутно — общие законы истории и «духа в ней». Нечего объяснять, как труден, но и благороден, почетен предмет. В общем и целом поиск идет успешно. Поэт находится в русле большой культуры, а произведения его становятся достоянием всей советской поэзии. Критерии оценки — соответственны.
Но эпос и драматический эпос — это все же не все о Марцинкявичюсе...
Он время от времени преподносит уроки, которые заставляют вновь задумываться о законах литературного процесса как целого...
Понятно, что две эти поэмы, напечатанные на русском языке, для литовского читателя не новость; но поскольку они все-таки и реально более поздни, чем его эпические и эпически-драматические произведения этих лет, то мы и можем делать свои выводы.
Судя о явлениях литературы последнего времени, мы иногда начали забывать, что всякий художник полнее и таинственнее, чем он сразу кажется; что искусство многообразно и неожиданно; что поэзия — не желтый перекат, а скорее синий омут.
Мы все как-то слишком специализировали — расставили «на места».
Мы даже забыли о соотношении художественной индивидуальности и законов жанровости — мы стали путать то и другое. Нам кажется, что такой-то должен писать то-то, а такой-то — то-то. Тут эпос, тут лирика, тут «детская литература», тут критика, тут «художественная проза».
Но духовная жизнь едина, и большая художественная индивидуальность сопротивляется всем этим распределениям по ранжирам. Жанры на то и существуют, чтобы предоставлять художнику стройные формы для разнообразного воплощения его индивидуальности, для выявления полноты ее; и Марцинкявичюс вновь нам напоминает об этом.
Его уже поставили на «его» полку: он эпик, он драматург; он...
Но всякий, знакомый с законами внутренней жизни искусства, мог бы ожидать, что закон художественной полноты вот-вот поведет Марцинкявичюса в «другую» сторону; что у него создалось накопление энергии, требующее смены ритмического и созерцательного ракурса.
Действительно, «Поэма огня» и «Ноmо sum» — «неожиданно» иного склада, чем эпические или эпически-драматические, «строгие» по стилю «Кровь и пепел», «Стена» и драматическая трилогия. (Впрочем, в «Стене» уже были признаки этого нового; такое тоже непреложно: новое накапливается исподволь—и наконец выходит на авансцену). Они решены в субъективном плане не только по внешнему стилю, но отчасти и по методу: в них есть элемент «визионерства»; ассоциативный принцип довлеет над повествовательным.
Через «сугубо личное» восприятие и заветные образы Марцинкявичюс выражает социальные и нравственные идеи, неизменно важные для его творчества. Соединяя символику с публицистикой и тем, кстати, обнаруживая одну из общих особенностей, присущих, условно говоря, литовской школе поэзии,— Марцинкявичюс напоминает о детстве и Хиросиме, о любви и жестокости, о природе и социальной патетике:
Я произнес чуть слышно слово:
Жизнь...
Зачем касаться
Этого позора?
Зачем тревожить
Дремлющее зло?
О, только б усыпить,
Сокрыть,
Заставить
Развоплотиться,
Кануть без следа!
Но было поздно,
Было слишком поздно.
Из уст Внезапно
Вырвался огонь...
При этом сама предельная индивидуальность, «подсознательность» пафоса и поэтики, как и следовало ожидать от поэта, выступает не сама по себе, а как последняя искренность, убедительность, ведущая к высоким духовным проблемам мира: «Из уст внезапно вырвался огонь».
Здесь Марцинкявичюс выражает то, чего нельзя было выразить через объективные характеры и коллизии, но что все равно было внутри него и требовало выхода.
Второй урок, который преподносит здесь Марцинкявичюс, тоже небезынтересен.
Много было стычек в последнее время по проблеме, которую можно обозначить как антиномия «разум — органичность», «фольклор — интеллектуализм». Для некоторых стало неписаным правилом считать эту задачу неразрешимой, эти начала — несоединимыми.
Русская поэзия и проза в их большой традиции всегда умели выражать то в этом и это в том: «Да здравствуют музы, да здравствует разум» — через запятую; Василиса Премудрая и мудра и прекрасна.
Мне кажется, заслуга литовской поэзии последних десятилетий, и прежде всего Марцинкявичюса, а также Малдониса, Декутите, в том, что она резко и по-своему напомнила о возможности дружественных отношений этих двух начал; о том, что фольклор мудр, а современный разум может быть фольклорен, народен, природен и органичен:
Да будет дождь!
Пускай он льет и хлещет,
Пусть пепелище
Зарастет травой.
Пусть запах детства
Возвратится снова.
Как пахнет детство!..
Я играл под сенью
Высокой пирамиды,
Как песок.
Пересыпая время
Из ладони
В ладонь...
Любопытно, что сама субъективно-интеллектуальная, «современно»-лирическая внешняя форма поэм не только не мешает, но в чем-то и помогает Марцинкявичюсу в этом смысле: придает фольклорности остроту, как бы «освежает» ее — показывает под особым углом.
Третье состоит в том, что Марцинкявичюс, задушевно любя Литву, всегда имеет в виду и весь просторный мир — страну, земной шар и космос; имеет в виду все лучшее и светло-духовное, что достигнуто человечеством:
.. .Хлеб положил
И, глядя в недра ночи,
Стал звать людей,
Затерянных во тьме:
Сюда, ко мне.
Скорей идите,
Братья!..
Этот тон давно задан послевоенной литовской поэзии Межелайтисом — и поддержан ею.
Таковы, я думаю, уроки от публикации двух новых поэм Юстннаса Марцинкявичюса на русском языке в переводе А. П. Межирова (переводе, выполненном плотно и напряженно); это порой относится не только к Марцинкявичюсу, а и к другим поэтам — к Межелайтису, к тем же Малдонису, Декутите — впрочем, как водится, весьма различным и между собой — внутри самой «школы»; но ведь то заветное, что может сказать «отдельный» поэт, языком статьи вообще непересказуемо — иначе поэзия была бы не нужна; зато уроки могут пойти впрок...
Ведь в конечном итоге эпос, драма, лирика,— все оно идет к одной цели.
Память и стиль : современная советская литература и классическая традиция [Text] / В. И. Гусев. - М. : Советский писатель, 1981. - 351 с.
© md-eksperiment.org