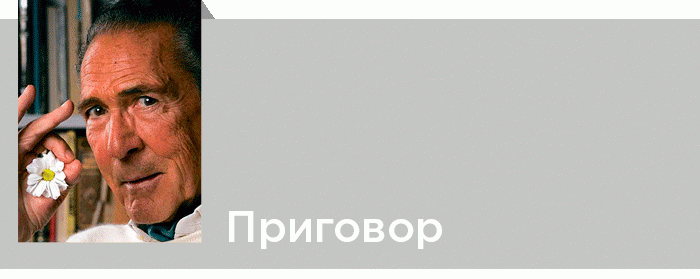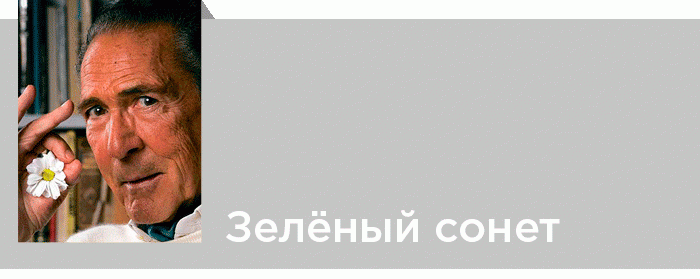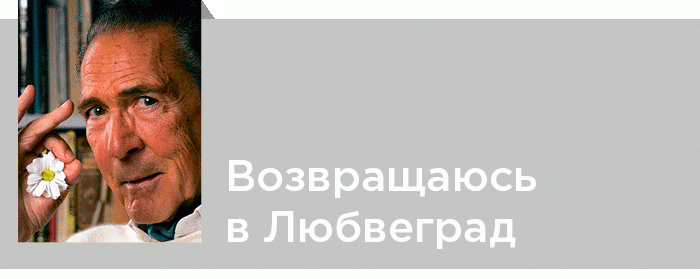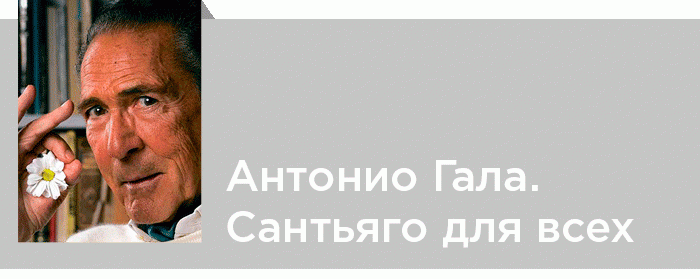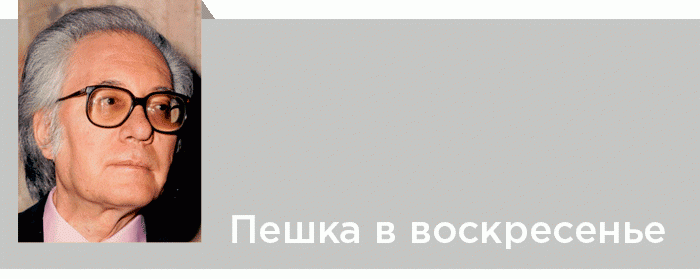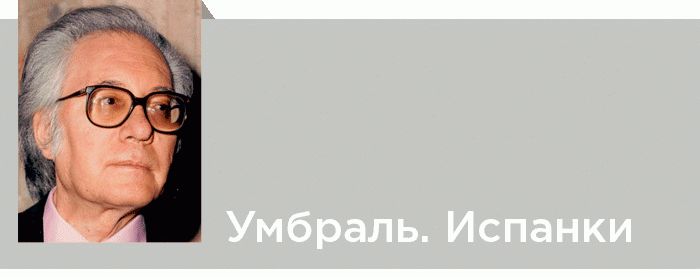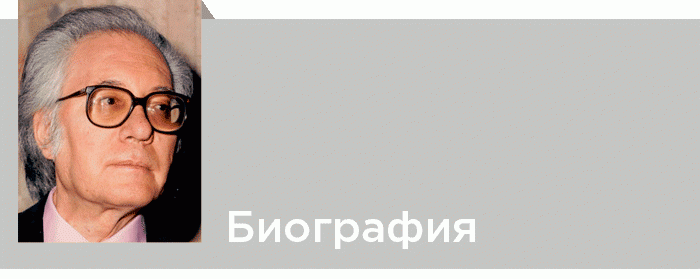Франсиско Умбраль. Авиньонские барышни
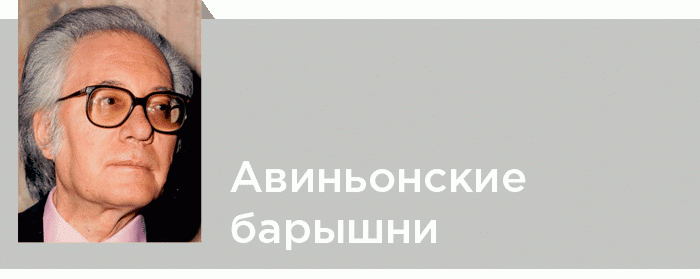
(Отрывок)
Некий Пабло Пикассо бродил по городу и писал портреты девушек, не всех конечно, а кто соглашался. Тетушка Альгадефина согласилась, и он нарисовал ее в бусах, немного похожей на цыганку, весьма смутно узнаваемой.
— Послушайте, сеньор Пикассо, что-то тетушка Альгадефина не слишком на себя похожа.
— Оставьте рисунок в покое. Портрету нужно время, и тогда сходство проявится.
Я часто повторял слова взрослых, и тут тоже взял и ляпнул молодому художнику:
— Все дело в том, что вы подражаете Нонелю, каталонцу.
— Иди ты к черту, мальчик.
— Я племянник тетушки Альгадефины.
— Ну так тем более.
По внешнему виду Пабло Пикассо можно было подумать, что он работает где-нибудь в гараже, этакий молодой автомеханик, вовсю путавшийся с женщинами (он их потом рисовал на своих «голубых» и «розовых» картинах), что приводило в смущение весь город. С тетушкой Альгадефиной он путался подолгу. Часами они не выходили из башни на площади Сан-Мигель, где помещалась студия молодого живописца, и я задавался вопросом, спит она с ним или нет. Похоже, что все время у Пикассо уходило на зарисовки стройного тела тетушки Альгадефины, таящего в себе одновременно и поэзию и чахотку. В Мадриде только о них и говорили.
— Сеньорита Альгадефина совсем потеряла голову с этим каталонским художником, бездельником, а ведь в Мадрид он приехал ненадолго.
— Да он не каталонец, он из Малаги.
— Нет, из Ла-Коруньи.
— И порядочная свинья.
— Говорят, что его отец был учителем рисования в Ла-Корунье.
— Яблочко от яблони недалеко падает!
— Именно так.
— В искусствах он преуспевает.
— Но рисует только раздетых женщин.
— В основном сеньориту Альгадефину.
Прошли года, целая вечность, и, обойдя художественные галереи и аукционы, музеи и частные коллекции, я увидел картину, где Пикассо («этот парень из гаража») изобразил обнаженной тетушку Альгадефину, бедняжку, давно уже умершую, и я нашел большое сходство, но главное, мне показалось, что автор картины — настоящий Исидро Нонель, даже более настоящий, чем сам Нонель. Каталонец Нонель хорошо видел жизненный драматизм, а Пикассо из Малаги увидел еще больше: проникнув в самую глубину драматичности бытия, он обнаружил там… небытие. И что же, выходит, тетушка Альгадефина — небытие? Ну так на этих страницах (романа-саги о XX веке) она бытие обретет, и вполне реальное. Пикассо посещал занятия в Королевской Академии Художеств. И не вылезал из борделя, а студия его располагалась в башне на мадридской площади Сан-Мигель. Тетушка Альгадефина всегда говорила, что согласилась стать бесплатной натурщицей Пикассо по трем причинам (как нас учит теология, Бог любит троицу): потому что Пикассо станет великим художником, потому что Пикассо ей нравится как мужчина и потому что она хочет оставить свой портрет в бусах внукам, которых у нее никогда не будет.
Когда прадед дон Марти́н Мартинес увидел в городе выставленную в витрине картину с обнаженной тетушкой Альгадефиной, он сказал, что счастлив иметь внучку, которая так хороша собой и так изящна. Когда дедушка Кайо увидел картину, он сказал, что теперь вся семья обречена на вечный позор, что это мерзость, и, оставив службу налогового чиновника, заперся в своих комнатах с четками, гравюрами, сушеным инжиром, кукурузными лепешками, несколькими бутылками вина «Риосеко» и Фомой Кемпийским, своей настольной книгой. Тетушка Альгадефина и сеньор Пикассо ходили грешить в парк Ретиро, и он рисовал ее там — как она кормила вафельными трубочками лебедей на фоне Хрустального дворца или как гребла на озере, со своей особенной грацией, черпая силы неизвестно откуда, как и все чахоточные. Пикассо очень нравилось торговаться, покупая вафли, ведь родившись в Малаге, он был гораздо цыганистее настоящих мадридских цыган, продавцов этих вафель, и он неизменно выторговывал самый полный кулек и вручал его тетушке Альгадефине, словно букет роз. Они гуляли и по главным улицам, под удивленными взглядами студентов Академии и прочих горожан, не могущих взять в толк, как такая благородная сеньорита оказалась во власти молодого богемного художника, да какое художника — еще ученика, чьи картины никто и не думал покупать.
Когда улеглись первые пересуды, тетушка Альгадефина решила представить молодого Пабло своим подругам — Марии Луисе, Марии Эухении, Дельмирине, сестрам Каравагио, словом, всему женскому окружению.
Мария Луиса, рыжеволосая и порывистая, тут же попросила художника нарисовать ее в бусах, как тетушку Альгадефину, на что Пабло охотно согласился, ведь Мария Луиса была эффектной красоткой, хотя в принципе ему больше нравилась красота неброская и спокойная, как у тетушки Альгадефины. Тетушке Альгадефине несомненно вся эта история с портретом Марии Луисы в бусах была неприятна, хотя держалась она прекрасно, как она держалась всегда — иронично, равнодушно, без эмоций. Мама не сказала по этому поводу ни слова.
Мария Эухения, целомудренная, милая и застенчивая, не просила у художника ничего, но Пикассо сразу же обратил на нее внимание, его привлекло слегка удлиненное лицо, совершенно готическое, в обрамлении волнистых волос, и он предложил написать ее портрет. Дельмирина, самая некрасивая и самая строгая из всего тетушкиного окружения, сказала, что этот Пикассо — просто плут и что она не стала бы ему позировать даже мертвой. Сейчас я думаю, что и Пикассо тоже неинтересно было бы ее рисовать. Что же касается сестер Каравагио, их было трое: одна — толстая, замужняя и практичная, вторая — косоглазая, от которой ушел муж-моряк, и третья — совсем еще девочка, по имени Сасэ, красивая своими изобильными формами или изобильная своей красотой.
Пикассо горел желанием нарисовать Сасэ — ее пышное тело виделось ему в кубистских формах, но сестры Каравагио сказали, что это стыд и срам, а девочке предстоит скоро выходить замуж за человека из Катастро, и это уже дело решенное.
Сейчас, на склоне лет, исписывая эти страницы и мысленно возвращаясь в прошлое, я хорошо понимаю, что Сасэ Каравагио была для Пикассо настоящей музой, роскошной кубистской женщиной, в самом расцвете юности, и я еще расскажу, изобразил Пикассо ее или нет на картине Авиньонские барышни, с которой начался кубизм и моделями для которой стали мои тетушки и их племянницы и подруги, хотя История утверждает, что позировали ему барселонские проститутки. Однако стоит только взглянуть на картину, столь знаменитую сегодня, как становится ясно, что эти обнаженные женщины вовсе не барселонские шлюхи, а вполне приличные мадридские барышни. И я расскажу потом, как это все произошло.
Я так никогда и не узнал, спала или не спала тетушка Альгадефина с Пабло Пикассо, признанным в наши дни гением века, наравне с Эйнштейном. Оба, кстати, носили кальсоны — непременный атрибут гениев. Сейчас мне бы хотелось думать, что тетушка Альгадефина облагодетельствовала Пикассо, но, к сожалению, не могу вписать этот славный факт в наши семейные анналы, поскольку достоверно ничего не известно. Так обстоят дела. На некоторых картинах Пикассо мадридского периода, а может и следующего, в обнаженных женских телах, возведенных в кубизм, несоразмерно крупных, мне видится Сасэ Каравагио, но я бы не осмелился утверждать, что это она, хотя в отдельных фрагментах она вполне узнаваема, ведь Пикассо выбирал модель, чтобы разъять ее на части и потом забыть о ней.
Пикассо очень нравилось гулять часами с тетушкой Альгадефиной по старому Мадриду, он делал зарисовки площади Себада, площади Паха, площади Лос-Каррос, площади Ромеро-де-Торрес.
— И что ты нашел в этом Ромеро де Торресе, Пабло? — спрашивала тетушка Альгадефина.
— Мне нравится.
— Авангардисты находят его пошлым.
— Этим-то он мне и нравится.
Авиньонские барышни, самые что ни на есть всамделишные, собирались иногда вечерами вокруг молодого Пабло в кафе на улице Сан-Бернардо — нашей жалкой копии Латинского квартала.
— Он скоро облысеет.
— Но лысина ему пойдет.
— Он гений.
— Он развратник.
С тех самых пор я называю моих тетушек и подруг моих тетушек Авиньонскими барышнями. То были счастливые, мгновенно промелькнувшие годы, когда они все, то веселясь, то ссорясь, порхали вокруг Пабло Пикассо, неудачливого «парня из гаража», непрофессионального художника, наделенного ярко выраженной мужественностью. Я называю это время розовой и голубой эпохой моей жизни. Я вижу себя в арлекинах Пикассо, я понимаю, что это не я, но кто знает, может, что-то есть в них от моего взгляда, от моего выражения лица, от моей наивности.
Дон Мигель де Унамуно-и-Хуго, ректор Саламанкского университета, много гулял по старинным площадям с моим прадедом доном Мартином Мартинесом, и разговаривали они преимущественно о Боге. У дона Мигеля это был настоящий пунктик, моего же прадеда, либерала и даже немного масона, привлекала возможность спорить.
— Знаете, чего вы на самом деле хотите, дон Мигель? Вовсе не найти Бога. Вы хотите заменить его собой.
— Вы богохульствуете!
— Вы ищете Бога с тем же лицом, с той же бородой, в тех же очках и в том же вельветовом костюме, что у дона Мигеля де Унамуно.
(Несколько позже, когда католик Папини сподобился увидеть Бога, он обнаружил, что у Бога его лицо — лицо Папини. Уж таковы мистики.)
Дед, или прадед, дон Мартин Мартинес и ректор Саламанки были добрыми друзьями, главным образом потому, что дон Мартин умел слушать, а именно в этом и нуждался Унамуно, и лишь изредка прадед вставлял реплику атеистического, а то и масонского толка, что стимулировало дона Мигеля на продолжение разговора с самим собой. Основой этой дружбы был Бог, поэтому она не слабела.
Приезжая в столицу, дон Мигель любил бродить по улицам в одиночестве, он плохо ориентировался в Мадриде географически, зато его исторические познания о городе были безграничны. В этих прогулках у него рождались поразительные статьи о Мадриде, потому что во время ходьбы ему намного лучше думалось и сочинялось. Все его творчество кажется мне теперь результатом этих прогулок, и это здорово.
Прадеда дона Мартина Мартинеса, выросшего не в городе, прекрасного наездника, человека выносливого, прогулки с Унамуно изматывали чрезвычайно. Дон Мартин, в силу своего происхождения, предпочитал гулять по полям.
— Может, зайдем в эту церковь, дон Мигель, пообщаемся с Богом?
Прадед предлагал зайти туда, разумеется, не из набожности, а из стремления немного отдохнуть и скрыться от мадридского солнца — этого божьего дара. Но дон Мигель и слышать ничего не хотел, как всякий деист.
— Единственный Бог, которому я молюсь, — это «Христос» Веласкеса, в музее Прадо.
— Но он не освящен…
— Он освящен мной. Я пишу о нем поэму.
Забегая вперед, хочу сказать, что в свой смертный час мой прадед, либерал и даже немного масон, попросил, чтобы его исповедал и причастил дон Мигель де Унамуно, единственный «священник», которого он был готов воспринять.
— Я знаю, что он поведет меня на небо, как я водил его в Вальекас.
Прогулка, как правило, заканчивалась в музее Прадо, перед «Христом» Веласкеса, в котором мой прадед не видел ничего особенного, однако он неизменно впечатлялся тем, как его друг вставал на колени и молился своими стихами (ставшими впоследствии знаменитыми) перед образом, написанным Веласкесом с присущим ему гениальным безразличием, возможно даже на заказ.
Когда дон Мигель де Унамуно входил в дом, мы все словно оказывались на церковной службе. По своему складу он скорее был священнослужитель, чем мирянин. Мне, совсем малышу, он говорил, что у меня интонации проповедника.
— Ты должен нести людям идеи Евангелия, в этом смысл твоей жизни, мальчик, тем более что ты обладаешь такой манерой говорить.
Моя мать, женщина свободных взглядов, обычно обращала его слова в шутку. Когда дон Мигель обедал или ужинал у нас, он неизменно благословлял пищу, чего мы сами никогда не делали. Однажды они взяли меня с собой в Прадо, и я до сих пор помню, как этот сеньор, такой почтенный и такой серьезный, стоял на коленях перед картиной, будто он не в музее, а на мессе в соборе. Туристы глазели на нас, и мне было очень стыдно. Перед распятием в церкви тебя пробирает дрожь, но перед распятием в музее ты не ощущаешь ничего.
— Мадрид — город дьявола, — сказал, выходя, дон Мигель, — и спастись можно только этим Христом.
Однако он тут же — и свидетелем тому не раз бывал дон Мартин Мартинес — с восторгом погружался в этот город дьявола: в Атеней, в политику, в газеты, в кафе, в утренние прогулки по старому Мадриду с бесконечными разговорами об античности.
— Там на выборах кандидат был безупречен, потому что выбирали самого молодого, самого честного, ничем себя не запятнавшего.
Дон Мигель проявлял такое неравнодушие к этому городу дьявола, что его даже отправили в ссылку, о чем читатель еще узнает на страницах Авиньонских барышень — этого правдивейшего романа. Чего он не умел — так это сидеть спокойно в своей скучной старомодной Саламанке. Мистик Унамуно был вне власти дьявола и плоти, но мир, то есть Мадрид, оставался для него большим соблазном, что делало его для нас более человечным и доступным, и поэтому прадед приводил его в дом благословлять нашу пищу.
Теперь, когда с той поры прошло столько времени, я понимаю, что единственные два человека, которых я, неверующий мальчик, воспринимал как священников, — это Унамуно и Фрай Луис де Леон, причем второй был развратным монахом, а первый вообще не был священником.
Дедушку Кайо с его вечным Фомой Кемпийским и неизменными четками дон Мигель немного пугал. Бабушку Элоису, женщину набожную, — тоже, хотя она всегда накладывала ему в тарелку лучшие куски. Однажды за столом, во время обеда, дон Мартин Мартинес произнес золотые слова:
— Знаете, кто вы, дон Мигель? Мне кажется, вы эразмист. И отчасти краузист.
Эразм, сеньор в большом берете и с большим носом, так он был изображен на картинке в учебнике, немало навредил (как следовало из текста) испанскому католицизму. Второго слова — краузист, которое звучало очень по-немецки, я не понял вообще.
— Я — реформист и одновременно контрреформист, дорогой дон Мартин. Я и Лютер, и Кальвин, и Святой Фома, и Аристотель, но никак не Краузе, этот недалекий буржуазный мыслитель. А вы знаете, что Святой Фома в свой последний час вдруг сказал монахам, записывающим за ним: «Оставьте, все мои слова — полный вздор».
Прадед дон Мартин Мартинес, который уже закончил есть, достал сигару, откусил у нее кончики, раскурил и, окутавшись сатанинским дымом, сказал дону Мигелю:
— А вы, не закончите ли тем же самым, признавшись на смертном одре, что все, вами написанное, полный вздор?
— Быть может, юноша, быть может.
Унамуно называл юношами всех, включая прадеда, который был намного его старше. Сейчас это слово прозвучало необычайно остроумно, и он, нервным движением руки, похожим на тик, механически поправил очки на носу.
Что касается тетушек, их подруг, мам и бабушек за столом, все они решили, что прадед поставил дона Мигеля на место (то есть на место священника, который не только совсем не похож на всех остальных священников, но, по сути, вообще не является таковым).
— Я вижу некое легкомыслие в этой семье, — сказал однажды дон Мигель, без сомнения имея в виду декольте тетушки Альгадефины, модели Пикассо, или декольте соседки Марии Луисы, еще одной модели молодого Пикассо.
— Извините нас, дон Мигель.
И они прикрыли свои декольте салфетками. Но солнечные блики — голубые, зеленые, красные, желтые — бешено плясали в их волосах.
— Однако я хорошо знаю нрав и взгляды моего друга дона Мартина Мартинеса, и я уверен, что в этом доме никогда не произойдет ничего, что могло бы выйти за рамки истинных испанских приличий и благопристойности.
Дон Мигель не знал, конечно, что молодой андалузский художник рисует тетушку Альгадефину и Марию Луису обнаженными.
В нашем доме царил матриархат, и только сильная личность прадеда дона Мартина Мартинеса несколько ослабляла власть женщин. В этом матриархате я рос, и поэтому позже, повзрослев, я всегда умел понять женщину. А для дона Мигеля все женщины, в том числе и его собственная жена, были лишь производителями потомства. Он даже не подозревал, как на самом деле обстоят дела в нашей семье. Он верил в патриархальность дона Мартина.
— Дамы и господа, прошу меня извинить, но меня ждут в Атенее.
И он уезжал в Атеней — спасать Город Дьявола, совсем как Христос Веласкеса, только облаченный в современный костюм, правда спасал он лишь самого себя своим нескончаемым монологом. Ему трудно было возвращаться в Саламанку, это было очевидно, потому что Мадрид давал ему гораздо больше собеседников. Тетушки, кузины, племянницы, их подруги обсуждали конфуз, случившийся за столом:
— Этот сеньор, конечно, мудрый и, может, даже святой, но нам из-за него пришлось прикрыться салфетками.
— Я-то уж ему этого не прощу.
— Пускай едет спасать души в свою Саламанку.
— Именно, там у них нравы еще средневековые.
— Этот сеньор не знает Мадрида.
Тут прадед дон Мартин Мартинес рассмеялся, не выпуская сигары изо рта:
— Он знает его слишком хорошо, девочки мои. Он видит Мадрид, да и всю Испанию, словно со стороны. Видит из Саламанки, которую он назвал «кастильской чеканкой», — не совсем удачно, конечно.
— Как можно использовать слово «чеканка» в стихах?
— Что сказал бы Нуньес де Арсе?
— И Кампоамор? — он еще утонченнее.
Тетушку Альгадефину, неизвестно почему, всегда приглашали на бал в Королевский дворец, и как-то раз она даже танцевала с королем.
— С доном Альфонсом XIII?
— С кем же еще?
— Он пригласил тебя на танец?
— Ну не я же его пригласила.
— И как он танцует?
— Я не поняла, это было как во сне.
В доме прадеда дона Мартина Мартинеса, считавшего себя республиканцем, дон Альфонс XIII был для всех женщин неким эротическим символом, хотя в то время таких слов никто не употреблял. Легкий налег дендизма и несвойственная мужчинам мягкость короля очаровывали их, впрочем как и всех остальных испанок.
— Говорят, он бездельник.
— Ну ты скажешь!
— Это у них в крови!
— В крови?
— Ну да, донья Изабелла II тоже только и делала что развлекалась.
На бал во дворец тетушка Альгадефина начинала собираться за неделю, с той минуты, как получала пригласительный билет. Муслины, кружева, шляпки, всякие побрякушки, полупрозрачные блузки, летящие юбки, рукава-фонарики, золотистые туфельки. И все женщины в семье, и все подруги участвовали в этих сборах, будто тетушка Альгадефина была Золушкой и все ее будущее зависело от этого бала.
Дону Мартину Мартинесу, прадеду, даром что республиканцу, доставляло удовольствие, что его любимая внучка танцует с самим королем. Дедушка Кайо и бабушка Элоиса видели в этом крах семейных устоев и религии. Дедушка Кайо был человеком мягким и молчал, находя утешение в своем Фоме Кемпийском, а вот бабушка Элоиса не переставала повторять, что все они сбились с пути истинного, что в доме не хватает сильной мужской руки и что суетный мир, погрязший в роскоши, катится прямиком в ад.
Потом мы узнали, что тетушка Альгадефина и король, переодетый простолюдином, чтобы его никто не узнал, гуляли вечерами в Ретиро и даже плавали на лодке по озеру. Тетушка Альгадефина не рассказывала королю, что позирует обнаженной молодому андалузскому художнику по имени Пикассо, потому что не знала, понравится ли это его величеству.
Зато уж она точно рассказала ему, что в дом часто заходит дон Мигель де Унамуно, близкий друг деда, и вроде бы король сказал: «Для Унамуно у меня уже заготовлена награда — он ее заслужил». Согласно семейному преданию, которому я свято верю, король возил тетушку Альгадефину в маленькое шале в Гиндалеру, делалось это под большим секретом, из чего я теперь заключаю, что, скорее всего, они были любовниками, вот только тетушка Альгадефина — какая жалость! — не завела себе королевича, маленького бурбончика, коих можно встретить немало по всей Испании. Любовные отношения тетушки Альгадефины и короля, похоже, длились недолго, но слух о них моментально распространился по всему городу, как это обычно бывает, и на тетушку Альгадефину стали смотреть с почтением и благоговением, как если бы она была герцогиней. Оно и понятно, лечь в постель с королем означало приобщиться к высшей знати, получить тайный титул, и вообще заполнить свои жилы голубой кровью.
Бабушка Элоиса вряд ли знала об этом, но интуитивно выбросила все изображения короля, что были в доме. Правда, никто так никогда и не узнал, легла тетушка Альгадефина в постель с доном Альфонсом или нет. Мне лично казалось, что от великой любви всегда рождается ребенок, но я не видел нигде никакого ребенка. А мне бы понравилось иметь кузена бурбончика и играть с ним в принцев, однако тетушка Альгадефина не захотела мне его родить.
Дошло до того, что среди многочисленных кавалеров, приходивших в дом, вдруг появился некий сеньор, очень похожий на Альфонса XIII, называвший себя республиканцем. Однажды, будучи приглашенным на обед, он совпал с доном Мигелем де Унамуно, который даже не обратил на него внимания и, благословив пищу, принялся ругать Бурбонов и долго объяснял, как они поставили Испанию на край пропасти.
— Вы совершенно правы во всем, дон Мигель, — сказал двойник Альфонса XIII или кто он там был на самом деле, этот важный молодой человек.
— Вам что, тоже не нравятся Бурбоны, юноша?
— Я их слишком хорошо знаю, для того чтобы они мне нравились.
— Вы что, придворный?
— В какой-то степени.
— Этого я и боялся.
— И во дворце говорят, что вам скоро пожалуют Большой Крест.
— Это справедливо. Мне кажется, я его заслуживаю.
— Обычно все награжденные скромно говорят обратное — что они его не заслуживают.
— И они правы.
Бывали дни, когда тетушка Альгадефина сияла солнечной улыбкой, ясные глаза ее светлели, и даже волосы становились светлее, приобретая пшеничный оттенок. Но бывали и другие дни, когда в глазах ее поселялся трагизм, сгущая их цвет почти до черного, улыбка исчезала, оставляя на губах жалкое свое подобие, волосы темнели, и она вдруг казалась чуть ли не мавританкой. Все зависело от ее состояния.
Молодой Пикассо был просто одержим идеей написать портрет обнаженной Сасэ Каравагио, еще совсем девочки, чье пышное тело свело бы с ума самого Рубенса. Пухлые щечки и маленькие губки (невозможный Гальдос сказал бы «губешки»). Отвратительно!
— Я непременно напишу с тебя кубистический портрет, Сасэ.
— А что такое кубизм, дон Пабло?
— И ты еще спрашиваешь, детка? Кубизм — это ты.
Все семейство Каравагио, вопреки ожиданиям, вдруг согласилось на этот портрет. Кто не соглашался ни за что, так это жених Сасэ, мелкий служащий, который вот-вот должен был получить место в Катастро. Тщедушный парень, не слишком привлекательной внешности, с бледным желтушным лицом.
— Если ты станешь позировать этому проходимцу, Сасэ, имей в виду — между нами все будет кончено.
— Значит, кончено. Значит, с Катастро мое будущее не связано.
Мелкий служащий, чьим единственным достижением в жизни была помолвка с такой корпулентной и пригожей девушкой, как Сасэ Каравагио, понял, что потеря невесты с ее бесценными килограммами сделает его жизнь пустой, а будущую карьеру чиновника — ненужной. Этот молодой человек, имя которого моя память не сохранила, читал взахлеб Достоевского. Как почти все любители Достоевского, он находил в русском писателе объяснение своим собственным метаниям, сомнениям, страхам и кошмарам. Русская литература тогда была в большой моде: Лермонтов, Тургенев, Пушкин и иже с ними, — и все мелкие служащие и прочие неудачники читали Достоевского и ощущали себя его персонажами.
Потом, с течением времени, как читатель увидит из этого правдивого документального романа, молодые люди будут увлекаться совсем другими вещами: авангардизмом, футуризмом, даже сюрреализмом. Но поздний романтизм русских по силе воздействия не имел себе равных, он был ни с чем несравним, многие испанские неудачники стремились выстроить свою жизнь по его правилам.
Вот и жених Сасэ Каравагио оказался большим поклонником Достоевского и повесился на ремне, перебросив его через стропило, в пансионе на улице Мадера, где он жил. Бедняга мог бы послужить иллюстрацией для какого-нибудь дешевого романа в русском стиле. Хозяйки пансиона, две сестры — старые девы, уже привыкли, что раз в месяц кто-то из постояльцев сводил счеты с жизнью подобным способом.
— Этот юноша казался таким серьезным и таким положительным, и вот тебе на.
— Особенно обидно, что его ждала большая должность в Катастро, он бы точно ее получил.
Изящно спадавшая на лоб длинная прядь светлых волос скрывала самоубийце чуть не пол-лица. Правду сказать, в этом подвешенном состоянии он выглядел очень романтично.
Женщины Каравагио, склонные к театральности, нарядились в траур и напустили на себя скорбный вид, лишь Сасэ, девочка Сасэ, которую, казалось бы, это затрагивало напрямую, и не думала скорбеть, должно быть, у нее была поистине кубистическая душа, которую так проницательно разглядел Пикассо.
— Все это случилось с ним из-за того, что он столько читал, он читал слишком много романов.
— Разве романы так уж плохи, сеньорита?
— В большинстве своем да, если они русские.
— А что, покойный читал по-русски?
— Да что я о нем знаю, сеньора, что я знаю. Мы были только помолвлены, и кольцо обручальное, вот у меня на пальце, посмотрите, оно даже не из золота, это позолоченное серебро Менесеса. Разве такое кольцо может связывать меня с покойным?
Это жизнь. Молодого человека, большого поклонника Достоевского, похоронили на гражданском кладбище, ведь самоубийство — тяжкий грех. Сестры Каравагио устроили целое погребальное действо. На поминках, где все было обставлено как полагается, они принимали соболезнования друзей и близких (то ли у покойника родных не было, то ли они не смогли приехать) и вообще были главными действующими лицами. Увы, девочка Сасэ не принимала в этом никакого участия.
Собирались даже дать объявление в «Бланко и Негро», но в «Бланко и Негро» не захотели иметь дело с самоубийцами. Той ночью на вечеринке в «Форносе», в окружении актеров, проституток и поэтов-модернистов, молодой Пикассо с огромным бантом на шее, казавшимся черной бабочкой, готовой вот-вот вспорхнуть, во всеуслышание объявил:
— Завтра я пишу свой первый кубистический портрет. Объемы Сасэ Каравагио и вправду соотносились с геометрическими формами. Портрет писался в студии/башне художника, и молодой Пикассо щедро наделил Сасэ титьками, их было больше, чем нужно, он еще и раскидал их по всему ее голому телу, и вообще все смешал: ягодицы и щеки, нежный ротик и срамные губы. Можно сказать, что юное тело сеньориты, роскошное и пышное, художник разделил на части и поменял их на рисунке местами. А можно сказать, что он ввел в систему геометрических параметров это рубенсовское тело, с которым любой другой художник просто не справился бы.
Тетушку Альгадефину, понятное дело, не радовала вся эта история.
— Тебе что, не хватает меня, Пабло?
— Я тебя люблю, Альгадефина, но Сасэ Каравагио — само воплощение кубизма, и я не могу бросить эту работу.
— Я не понимаю тебя и знать не знаю, что такое кубизм.
— О кубизме уже вовсю пишут французские журналы.
— Что мне французские журналы, я не читаю их.
— Тогда давай я тебе объясню. Кубизм — это задница Сасэ Каравагио. Кубизм — это игра пропорций и диспропорций, это большая женская задница, вписанная в геометрическое пространство.
— Так ты рисуешь задницу этой толстухи?
— Задницу и лицо.
— Тогда между нами все кончено, Пабло. Мне казалось, что тебе достаточно моей задницы.
— Ты — это совсем другое. Твоя задница — это просто страдивариус по сравнению со всеми другими задницами. Но пойми, у меня сейчас новый этап, новый…
— Страдивариус, говоришь? Ну так ты больше не тронешь его струн.
Так все и закончилось, потому что тетушка Альгадефина уже начинала гулять с Рубеном Дарио, дипломатом с лицом индейца, человеком очень мягким, но пьющим. Его вовсю печатала «Бланко и Негро», ведь он-то не был самоубийцей (как несчастный жених Сасэ Каравагио, поклонник Достоевского). Он посвятил тетушке Альгадефине, всегда питавшей большую слабость к поэзии, очень красивые стихи, необыкновенные, не рифмованные на первый взгляд, а на самом деле с богатейшими внутренними рифмами.
Критика