Речь очевидца (В. Вересаев. «В тупике»)

Инна Пруссакова
Кто сегодня читает Вересаева? Собиратели знают двухтомник «Пушкин в жизни». Все остальное, кажется, кануло в пучину забвения. А ведь какие споры гремели! Сначала — по поводу «Записок врача». Их читала вся Россия: и студенты, и сельские врачи, и учителя, и гимназисты. Врачи — те обижались за честь мундира, а остальные читали с жадным любопытством и сочувствием. Вересаев был первым, кто — очень деликатно — поставил вопрос о взаимоотношениях лекаря и пациента. Толстой в «Анне Карениной» изобразил врача, пользующего Китти, хитрым, умным, лощеным шарлатаном, а Вересаев одновременно с Чеховым и Куприным написал о рабочей косточке — о трудах и днях тяжко работающих, нищих и малоуважаемых больничных врачей, земских врачей, о тысячах маленьких Базаровых, которые делают свое дело, никем не замечаемые, и умирают на посту, никем не оплаканные. Эти люди и читали его повести «Без дороги», «Поветрие», «На повороте», «К жизни». А как спорили студенты уже советской России о повести «Исанка», где трактовались весьма острые проблемы студенческого быта! После, в тридцатые, в сороковые, были популярны его «Невыдуманные рассказы о прошлом», ему принадлежат добротные переводы эллинской литературы. Вересаев никогда не ходил в первачах, по силе изобразительности его проза уступала и Куприну, и даже Шмелеву, и, однако, — он легко удерживался в десятке самых читаемых авторов. Он был актуален тогда — но вот его старая-престарая повесть, и она тоже оказывается актуальной — через семьдесят лет после своего появления на свет. При том, что повесть, хоть она и давно написана, вряд ли многие могли прочитать в период с тридцатого до восемьдесят девятого года, — по той причине, что она была изъята из обращения и запрятана в спецхраны. И для этого были веские основания.
Вересаев закончил повесть в 1923 году. С осени 1918 года по осень 1921-го писатель прожил в Крыму, переходившем от красных к белым и обратно, и на себе испытал все ужасы гражданской войны, а уж повидал их более возможного. Вот об этом он и написал, сохраняя свою объективную манеру, не преувеличивая и не сгущая красок. Времена еще стояли, как выразилась Анна Андреевна Ахматова, вегетарианские, и повесть напечатали быстро. И, как было тогда принято, приняли к обсуждению на странноватом для нас сборище: на встрече руководителей государства с деятелями искусства. И вот что сказал хозяин дома Л.Б. Каменев: «Удивительное дело, как современные беллетристы любят изображать действия ЧК. Почему они не изображают подвигов на фронте гражданской войны, строительства, а предпочитают лживые измышления о якобы зверствах ЧК». И кто же ему возразил? Ф.Э. Дзержинский! «Что касается упрека в том, что он будто бы клевещет на ЧК, то, товарищи, между нами — то ли еще бывало!» Это к вопросу, знал ли центр о том, что творится на местах...
Сегодня повесть читаешь не замечая, как это сделано. А если начинаешь замечать... Ну что ж, конечно, теперь так не пишут. Вересаев и в свое время выглядел старомодным рядом, например, с Пильняком или Андреем Белым. Но попробуйте по мемуарам Белого составить себе конкретное представление об эпохе! Ничего не выйдет. Отражающая поверхность у него ничтожно мала, да и та больше искажает, чем отражает. Белого читают с другой целью, а узнать от него что-либо о реальности — задача невыполнимая. А вот Вересаев — надежный свидетель.
Участников и свидетелей гражданской войны больше нет. Нам, наследникам этой великой ломки, остается лишь полагаться на документы. Их не так уж много. И повесть Вересаева стоит рассматривать в этом ряду — не как художественное произведение со своей эстетической системой, а именно как письменный источник. Это свидетельство человека, не только не злобствовавшего, а, напротив, все свои ранние годы примыкавшего к революционным кругам. Один из Смидовичей даже был членом ЦК РСДРП. Да и сам Вересаев по своим взглядам — последовательный демократ.
Нас учили представлять себе гражданскую войну по «Железному потоку» и «Чапаеву», то есть с точки зрения красных, если мало — пожалуйста, «Любовь Яровая» и «Разлом», где категорически утверждалась «красная» правда как единственная и абсолютная. Очень потом мы узнали, что красные бывали не менее жестоки, чем белые. Затем — что среди белых попадались вообще очень приличные люди («Дни Турбиных»). А затем пошел откат в обратную сторону: красные — исчадия ада, белые — сплошь героические натуры. Вересаев удерживает в круге зрения обе стороны: и красных, и белых, и многих других, которые и составляют подавляющее большинство: невоюющие массы. Это и семья доктора Сартанова, но это и местные крестьяне, для которых одинаково чужды социалистические лозунги красных и монархические надежды белых. Крестьяне хотят спокойно заниматься своими делами, им безразлично, какого цвета власть и ее знамена. Таких равнодушных, как показывает писатель, много, рисовали их в поэтике соцреализма исключительно как оголтелых врагов (чего?). Либо — как дискретных врагов новой жизни, косную, отвратительную мещанскую массу. Вересаев делает различия: есть крестьяне, готовые в любую минуту идти грабить, есть крестьяне, из которых вполне успешно выращивают адептов режима, но есть и честные труженики, рассматривающие власть как помеху своему труду. Пройдет десяток лет — и Шолохов своего Майданникова, а Твардовский — своего Никиту Моргунка приведут в колхоз и сделают пламенными его адептами. Но в жизни-то было не так! В жизни этих истовых пахарей первыми загоняли в лагеря и в землю, как это у Солженицына сделали с дворником шарашки Спиридоном. А впервые эти «несогласные» (после 1917-го) и появляются у Вересаева, просто зеркально отражающего сложные пласты реальности первоначального периода советской власти. Разлом российской действительности — вот что описано в повести. И ее главный вопрос — не «что делать?» и не «кто виноват?», потому что на первый вопрос писатель отказывается отвечать, а на второй — ответ ясен, его поиски идут в другом направлении. Он доискивается, откуда они взялись, эти наводящие ужас новые властители в кожанках, где таились до сих пор? Не наросли же они за одну ночь с шестого на седьмое ноября (с двадцать пятого на двадцать шестое октября) 1917 года? Откуда они взялись, если члены немногочисленной РСДРП только и делали до этого срока, что сидели в царских тюрьмах да в сибирской ссылке? Откуда? И он развертывает перед читателем вереницу ликов этого нового племени, чтоб познакомились с этой популяцией, чтоб получили представление о ее разновидности, чтоб прониклись ощущением неотвратимой опасности, исходящей от всех без исключения ее представителей.
Это написано семьдесят лет назад. Пожалуй, определить жанр повести можно скорее всего как очерк натуральной школы — это быстрая, точная и экономная композиция зарисовок нравов. И как узнаваемо! Авантюристы, взнесенные на гребень волны и спешащие урвать свое, покуда не скинули вниз; развернувшиеся садисты, получившие наконец возможность дать волю своим патологическим инстинктам; брызжущие слюной классовой ненависти вчерашние пролетарии, едва ознакомленные наспех с марксистской фразеологией и использующие ее как дубинку; и наконец — бывшие подпольщики, вчерашние революционеры, аскеты и бессребреники, убежденные в том, что и все остальные должны так же поклоняться Молоху революции, как они.
Мы как будто условились вынести архаичность письма Вересаева за скобки и не принимать ее во внимание. Но в ней есть свои достоинства: книга получилась занимательной. Изобилие фактов, наряду с горячими спорами отнюдь не теоретического плана, создает напряжение, благодаря которому интерес не ослабевает. Психологические глубины, создание типов — это все будет потом; после; сейчас, по горячим следам, надо успеть закрепить на бумаге хотя бы самые резкие контуры окружающего — и эту свою задачу писатель выполняет. Будь мы современниками автора, возможно, мы бы имели в чем его упрекнуть; но сегодня мы, родившиеся на несколько десятков лет позднее описанных в повести событий, можем быть только благодарны за их точное, суховатое, хроникальное воспроизведение. А интерес... Ну как же ему не быть, если со страниц газет на нас уже смотрят пустые глазницы гражданской войны, которая покуда погромыхивает на окраинах бывшей империи. Но каждую минуту она может перекинуться в наши покуда мирные широты. Так как же не всматриваться с волнением в то, как это было, как не ужасаться, не возмущаться, не надеяться — авось да минует чаша сия... Рассказывают, что машинистка, перепечатывая для Томаса Манна «Иосифа», удовлетворенно заметила: «Вот теперь я знаю, как это на самом деле было». Хоть Вересаев и не Томас Манн, но при чтении испытываешь примерно такие же чувства. Нам, правда, уже пытались рассказать эту историю другие, расторопные и уже достаточно перепуганные литераторы. К чести Вересаева надо сказать, что он, уже старик, перепуган не был. Не то не стал бы читать свою рукопись в присутствии высшего литературного начальства, да и писал бы несколько иначе. Как те, кого мы знаем со школьной парты...
По страницам книги гуляет смерть. Она в разных обличьях: одних расстреливают красные, других — белые, третьих вообще достает шальная пуля, а кто-то и вовсе умирает в своей постели — от голода и холода, от беды и ужаса. Писатель не стремится писать Смерть с прописной буквы, он не призывает на помощь символы и метафоры, он просто регистрирует. Смерть гуляет по этой земле, люди гибнут, и нет этому конца. Рушится все здание жизни: и государственной, и народной, и семейной, и частной. Все рушится, и ничего не созидается. Все четыре всадника Апокалипсиса скачут во мгле, и только смерть, и разруху, и опустошение несут они с собой, и никакого «мы наш, мы новый мир построим» нет и быть не может. Мир — он один, он — дом, где надобно жить, а ежели все взорвать, то, на месте стен останутся руины, а вместо людей, какими бы они ни были, — трупы.
Мы читаем эту книгу, зная, что получилось из всего этого дальше. И знание помогает яснее увидеть истоки нашего нынешнего разорения. А Вересаев все-таки не знал. Но видел — беспощадно. Хотя сами-то идеи социализма встречают у Кати, его героини, самую искреннюю поддержку. Ей-то кажется, что все дело — в том, что отошли от подлинного социализма, а то бы получилось все как следует!
Вересаев пишет не только затем, чтоб понять, что происходит. Он исследует вопрос — почему так? Что думают люди? Почему они действуют таким образом, как веруют? Его интересуют мнения. И вот каковы они.
Крестьянка Уляша отвечает на вопрос, что значит быть большевиками: «Дачи ваши грабить». Вот она, народная поддержка большевиков! Это — разрешение излить ненависть, рвать и хватать у так называемого классового врага. А бедняку всякий враг, тем более — любой, кто что-то имеет. Таким, как Уляша, выдана индульгенция, и грабеж признан наконец-то законным и чистым делом. И целый пласт общества отдан на поток и разрабление.
Белый офицер Дмитрий: «Происходит новое нашествие варваров... Вместо науки — публицистика „Правды", вместо поэзии — Демьян Бедный, вместо живописи — толстопузые попы и звероподобные генералы на плакатах». Ох, что-то напоминает совсем свежее: на оплату профессоров нет денег, поэзию печатать невыгодно, и «Библиотека поэта» ничего не выпускает, полотна из Эрмитажа гуляют по свету, потому что нам их показывать нерентабельно... Вместо «Войны и мира» — «Бесконечный тупик», вместо непереиздающегося Пушкина — что?
Офицер Добровольческой армии: «...с австрийцами мы были рыцари. А против большевиков мне совесть моя разрешает все! Меня пьяные матросы били по щекам, плевали в лицо, сорвали с меня погоны, Владимира с мечами. На моих глазах расстреливали моих товарищей. В родовой нашей усадьбе хозяевами расхаживают мужики, рвут фамильные портреты, плюют на паркет...» Л. Б. Каменев возмущался: зачем пишут о зверствах ЧК, зачем не пишут о подвигах на фронте? Но подвиг — это не всякая храбрость, а лишь такой поступок, который совершается бескорыстно, во имя высокой идеи. А ее у большинства нет, как показывает писатель, и поэтому уже само понятие подвига сюда неприложимо. Какая высокая идея? Социалистические идеалы? Но какие же идеалы, когда происходит надругательство над человеком, когда, как говорит Катя, никакие царские тюрьмы не идут в сравнение с теми адскими условиями, что создали в своих казематах большевики. Какие уж там идеалы! Блок очень хотел поверить в святость народного гнева. Он и Христа призрачного пририсовал за спинами красногвардейского патруля. Но в том-то и дело, что нет никакой святости, а есть развязывание самых низменных инстинктов. И легенда о чистоте помыслов тех, первых, — легенда эта тает, как дым.
Вот перед нами один из редких для революции неподкупных Робеспьеров, двоюродный брат Кати Леонид Седой. Это человек не простой, он, как бы написали в учебнике для средней школы, полон противоречий. Среди большевиков — разбойников, насильников и хапуг — он едва ли не самый страшный при полном бессребреничестве: он — человек убежденный. Он верует, что нет бога, кроме революции, и все на свете этому богу должно служить. И неважно, что будет сделано и как, сколько жертв будет принесено — важно лишь, что на пользу революции. Жестокость в данном случае вытекает не из характера, не из подавленных страстей, а из безграничного фанатизма, из преданности отвлеченной идее. Убивать, грабить и обманывать — если ради революции, то можно. Мораль? Устаревшее понятие. Человечность, милосердие, наконец, справедливость? Интеллигентские вопли, не стоящие внимания. Но он же спасает выгнавшего его Сартанова от расстрела, он освобождает Катю из тюрьмы. Стариков и инвалидов согнали на окопы? Он машет рукой: пусть их! Сколько отдается нелепых приказов, не отменить же их все! Но он затевает народный суд над бандитами, ограбившими купца Агапова. И тут же поворачивает накал страстей так, что от вопля «расстрелять!» приговор снижается до двадцати пяти горячих. Он не кровопивец, он, где может, и смягчит ужасы произвола, он образован и умен. И он страшнее всех: для него идея важнее жизни, он верует, что не суббота для человека, а человек для субботы. Таких-то верующих и выбивал отец народов в 37-м. Но они успели кое-что совершить и до этой даты.
Близка по своему генному коду к Леониду и старшая сестра Кати Вера, с ее штопаным бельем и изработанными руками. Но и она спокойно принимает уже существующие привилегии: ордер на комнату, внеочередное вселение. Она имеет право, а другие — нет. И она всегда стоит за честь мундира. Для нее человечество уже разделилось на наших (т. е. партийцев) и ненаших, а уж по отношению к ненашим все средства хороши, как к клопам. Вересаев бесхитростно показывает, что если Сартановы и зря жалели мужиков — те их теперь не пожалеют, то уж большевики так последовательно презирают народ, как никакому князю и графу и не снилось. Большевиков — горстка, а народ — весь! — мыслится ими как некая враждебная масса, которую следует загнать в стойло и заставить делать то, что велят, поскольку он, народ, не знает и знать не смеет, как надо жить. И большевики давят, и давят, и давят, и навстречу этому давлению из почвы поганками лезут всякого рода приспособленцы, приняв правила игры. Беспринципность и ложь — вот что порождает насилие и презрение. Журналист Спартак в своем якобы репортаже в газету приписывает профессору экстремистские лозунги и призывы, а речь того вообще была о другом. И Спартак лениво и нагло осведомляется: «А вам не все равно, что будет напечатано?»
Так рождается в рабоче-крестьянском государстве свое «чего изволите?». Так куются кадры — отец народов скажет, что они важнее всего, и прав будет.
Вересаев не возмущается, не ужасается и не гиперболизирует. Он констатирует и при этом проявляет и зоркость, и необычайную памятливость. Спартаки-то при всякой власти были и будут, ничего нового тут нет, и безнравственность была и будет, и жестокость в людях не вчера появилась, — все так. Но поставить на службу государственным (т. е. партийным) интересам всю эту грязь первыми догадались большевики и сделать бесчеловечность тотальной — тоже. Вересаев, упаси бог, не плачет об утрате нравственных устоев, — для этого он слишком умудрен, он знает, что соображения морали на войне умирают первыми. Он не оплакивает человеческую природу. И он не пророчествует, но с чуткостью художника ощущает дальние раскаты подземного грома — и предупреждает: это все не просто так, это конец и начало, времена меняются. И в основе перемен всеобщие ошибки, глобальные заблуждения. Лучшие из большевиков заблуждаются, ожидая пришествия своего хрустального рая. Заблуждались и революционеры, вообразившие, что они спасут народ, а народ чает спасения. Катей, прошедшей и казематы, и ссылки, двигала жалость к меньшому страдающему брату. Она ошибалась! «...Наймиты буржуазии, что везде агитацию ведут, — эту сволочь надобно уничтожать без разговору. Таким — колено на грудь и нож в живот!» — убежденно говорит ей рабочий-коммунист Желтов. Вот чего хочет народ, а вовсе не лучшей доли. Его ненависть куда действеннее, чем его любовь, да и есть ли она, эта воспетая поэтами любовь трудящегося к полю и станку? Не выдумана ли она? Не химера ли? А вот темная, слепая злоба так называемых людей труда к интеллигенции, к тем, кто читает книжки и умеет складно говорить, — она тут и никуда не делась, она бессмертна, должно быть... Толпа не хочет света истины, она хочет свободы кричать, бесноваться и, если только можно это делать безнаказанно, — свободы топтать всех чужих. Темный вовсе не ищет просвещения! «Дай вот образование отнимем от вас, себе возьмем, — тогда вы против меня ничего не сможете сказать», — заключает Желтов, и главное тут — не то, что образование наконец-то получат массы, а то, что — отнимут, словно образование — это вид имущества, и можно кого-то его лишить. Главное — отнять, отобрать, вырвать. И тогда... Вот оно блаженство: отнять! Не заработать своим трудом, — а отнять. Ошиблись, ошиблись прекраснодушные, ошиблись самоотверженные, ошиблись милосердные.
Алогичность, жестокость толпы — разве она ушла? Разве мы не узнаем ее на страницах повести.
В молодые годы Вересаев видел холерные бунты. Тогда слободские, измученные и потрясенные реальностью смерти, шли убивать врачей холерных бараков, потому что, по их мнению, врачи «травят народ». Но тогда все же врачей и защищали, случалось. В Крыму девятнадцатого года никто не защитит врача Сартанова ни от пули махновца, ни от обвинения в антисоветской агитации. Сартановы беззащитны. И не только они! У богатых вымогают имущество, а после — сошлют их в Нарым, а то и просто пустят в расход. А с бедными и вовсе не церемонятся. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, катится по России, и некому его остановить. Но если мы подумаем вдруг, что вот наконец-то сбылась мечта большевиков и они достигли своего торжества, то и мы ошибемся. Вот одна из центральных сцен повести: ответработник Корсаков, его жена и сестры Катя и Вера вспоминают, как жили в ссылке. И вспоминают — с нежностью! И грустно приходят к выводу: а ведь это были лучшие годы их жизни! Корсаков, еще один экземпляр Робеспьера, и его жена, свято верующая в революцию, и Вера, и все, им подобные, — теперь они несчастливы. Насилие, нужда, разброд, противодействие не отдельных одиночек, а, по существу, всего народа, ненависть всех ко всем — вот их атмосфера, вот мир, где они обрекли себя жить, — ну может ли эта жизнь радовать?
Вересаев рассказал нам правду. Не всю — этого не может никто. Но он развеял еще немного тумана вокруг исторического события под названием «гражданская война». Художественные победы книги при этом достаточно скромны, и встает вопрос: как же она стала такой популярной? На него отвечает Е.Л. Шварц. Он подумал о другом знаменитом писателе, но его мысль вполне подходит и к нашему случаю: «... его дар: жить искренне, жить теми интересами, что выдвинуты сегодняшним днем, и писать о них приемами искусства сегодняшнего дня».
Л-ра: Нева. – 1994. – № 11. – С. 275-280.
Произведения
Критика
- Революция в романе В.В. Вересаева «В тупике»
- Речь очевидца (В. Вересаев. «В тупике»)
- Роман В. Вересаева «В тупике» и его критики

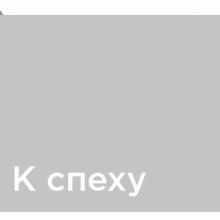












Поділитися