Жестокость и милосердие
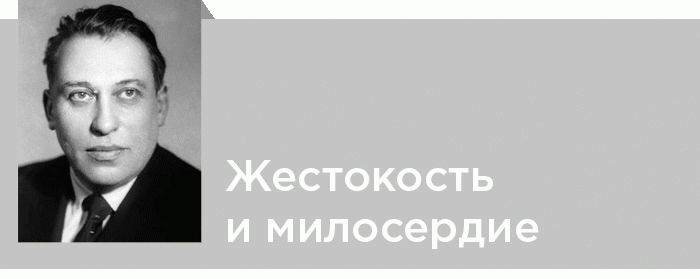
Михаил Поздняев
«...И все же завидна судьба человека, который и после смерти шлет своему читателю все новые и новые сочинения. Они лежали до поры до времени. Он, взыскательный, хотел их доделывать. И — не пришлось.
Как хорошо бы собрать — и ведь пора — всю его прозу в одном, или в двух, или в трех, или в скольких там томах. Эти его и веселые и сердитые сочинения...»
Так Павел Нилин прощался с Александром Яшиным.
Эта его заметка на прощание, впервые опубликованная после смерти — наряду с полутора десятками других рассказов и записей (иные ждали поры и времени больше полувека!), — эти строки в нашем восприятии обретают ныне уже совершенно особый новый смысл.
Вот они и изданы — два больших тома прозы Павла Филипповича Нилина, а несколько раньше — тоже большая книга его рассказов, напечатанных и не напечатанных при жизни. Двухтомник подводит итог: строгость, основательность и, так сказать, мемориальность — не только в объеме, но и в составе, структуре издания. Книга рассказов, в коей по соседству с лучшими нилинскими вещами, такими, как «Дурь», «Впервые замужем», ничуть не уступающие им «Счастливая женщина», «Один печальный день», «Загадочные миры», — эта книга разворачивает ту же самую писательскую судьбу в ракурсе неожиданном и впечатляющем. Это — книга живого автора.
«...И все же завидна судьба человека, который и после смерти...»
Сказанное не означает, что нам необходимо выбирать из предложенных двух вариантов какой-то единственный. Но есть необходимость сравнения, взаимодополнения. Ибо двухтомное «Избранное» без «Загадочных миров» — так же неполно, как и книга «Варя Лугина и ее первый муж» — без повести «Жестокость». В каждом отдельном случае мы понимаем действительный талант Павла Нилина. Сравнивая и дополняя, вдруг обнаруживаем, что читаем классику.
Нам следует говорить не о пресловутом «втором рождении» писателя, а о явлении известного, признанного, маститого писателя уже не в хронологических скобках — во времени большом, где есть место Федору Абрамову и Юрию Казакову, Александру Вампилову и Юрию Трифонову.
Перечитывая почти все из написанного Павлом Нилиным, обращаешь внимание не на крупность и талантливость (хотя у него почти нет произведений, которые нынче «не читаются»).
У него ищешь и обнаруживаешь другое.
В стихотворении «Отказ от поэмы» А. Кушнер вспомнил о беседе с Ахматовой, спросившей молодого человека, что, по его мнению, самое важное в поэме, — и ответившей тут же, за него: «Р а з м е р». Ритм, размер, интонация — пожалуй, действительно то главное, что отличает не только поэму, но поэзию (от непоэзии, лжепоэзии) вообще.
А в прозе — что самое важное?
В том языке словесности, который, по определению Гоголя, «не ищет слишком живых образов, картинности выражения, ни согласных сочетаний в звуках, предается естественному ходу мыслей своих в самом покойном расположении духа, в каком способен находиться всякий», — здесь что суть краеугольный камень?
«Иной раз я с грустью думаю, что в нынешнее время уже не ценится чистое, точное, выразительное письмо. Критики наши в большинстве случаев охотно пересказывают содержание романов и повестей своими отнюдь не впечатляющими словами и редко разбирают, ощупывают, исследуют самую ткань сочинений. Отдают первенство идее произведения.
Но чтобы донести идею, нужна форма, увлекательное повествование. Талант от бога. А если бога нет? Тогда мастерство?
Вероятно, в интересах нации надо как-то оконтуривать хорошего писателя, т. е. выявлять его особенности и круг содеянного. Это полезно и для общества и для живущего писателя».
Так писал Нилин в 1970 году. Опять-таки — не про себя.
Но, задумавшись о том, что превосходные рассказы (названные выше и еще другие) будут написаны и напечатаны через пять, восемь, десять лет — и тогда критика восторженно станет наперебой толковать о пресловутом «втором рождении», — задумавшись, полистав двухтомник и том рассказов, посмотрев, а что же Нилин писал в сороковые, пятидесятые, шестидесятые годы, — убеждаешься: у маститого, признанного, внешне такого благополучного Павла Нилина были причины и для иронии и для грусти.
«Ткань сочинений» писателя, его «контур и круг содеянного» — и есть то главное, важнейшее, что мы хотим назвать. Назвать это можно Темой.
Тема у большого писателя является и пропадает, звучит то в полную мощь, то где-то в отдалении; она в судьбе писателя, в круге всего им содеянного развивается полифонически. И она — это очень важно подчеркнуть — дана ему раз и навсегда одна.
Тема не выбирается писателем и не подсказывается ему со стороны. Она изначальна, как и талант. «Тема — основа музыкального развития», — читаем в «Музыкальной энциклопедии»; но разве не относится это к литературному поприщу? Тема сообщает творчеству цикличность, цельность, обеспечивает развитие.
Нилин писал и «о рабочих», и «про любовь», и «про войну»... но ткань, которую он призывал критиков замечать прежде всего в сочинении, — она у него всюду одинаково плотна и прочна. Наверное, потому, что именно основательность, «плотность» бытия и «прочность» мировоззрения писатель искал в каждом из своих героев. Будь то бесстрашный партизан, порубанный в тайге вражьими саблями («Хоронили моего дядю»), или чахоточный тихий жестянщик («Знаменитый Павлюк»), или прославленный хирург Бурденко (из документальной о нем повести), или никому — до ее «звездного часа» — не ведомая и не нужная мать-одиночка («Впервые замужем»). Нилин написал первые рассказы, когда ему сравнялось двадцать лет. Впервые ныне опубликованные «Зеленый дым» и «Любовь» — работы, так сказать, «с координатами», с обозначением пристрастий и влияний. Но все-таки здесь указания на школу, ученичество, восприятие традиций, пожалуй, маловато. И недостаточно, чтобы порадоваться современности звучания этой прозы конца 20-х годов в середине 80-х. А вот что поистине удивительно — то, что рассказы эти могли быть написаны Нилиным и в середине, и в самом конце его литературного пути; ну, оркестровка чуть изменилась бы, уточнились отдельные акценты, но тема — тема заявлена раз и навсегда.
Мне повезло читать «Зеленый дым» (1928), «Счастливую женщину» (1959) и «Граню» (1963) еще в рукописи, готовя их к журнальной публикации — перед выпуском книги. И тогда еще поразился вроде бы не очень важному обстоятельству: я не в состоянии определить ни в одном из трех случаев дату написания! Пуще того: если бы кто переставил даты под рассказами, я легко поверил бы, что «Граня», исполненная изящества, пьянящего воздуха юности и вечной силы любви, создана в 1928-м; а «Зеленый дым», анекдот о графомане, о литературной Москве времен похождений булгаковского Воланда и К°, о том, что такое слава («Тысячи тянутся на этот дым, как мотыльки на огонь, и тысячи завязают, как мухи в меду. А некоторые... некоторые выкарабкиваются»), — это, бесспорно, из мемуаров старого мастера. И вот — такое заблуждение!
Лучшие вещи Нилина связываются не его биографией, а его темой. Повторю: разговор тут не о стилистическом блеске, не о производимом на читателя эффекте.
Лучшее (или главное) — не возьмешь никаким анализом, этому не научишься: бессмысленно учиться тому, что уже как бы и не писателю принадлежит. Мы ведь говорим не о том, как написана, допустим, героиня Толстого, Достоевского, Лескова, — а о том, какова она, что такое она есть (и мы не сомневаемся: она — есть, как есть вы и я). Два громадных жернова вращаются: круг нашей жизни и круг мировой культуры. И соприкасаются-то в одной точке — а за нею пространство вечности. Не всякому, конечно, дано попасть в эту — вот именно болевую — точку, в которой две реальности гибнут ради возникновения третьей...
«После войны был принят суровый закон, по которому не явившиеся на работу или опоздавшие хотя бы на двадцать минут рабочие и служащие подвергались по суду серьезному наказанию вплоть до тюремного заключения.
Поэтому Нюра Заботкина, санитарка Кунцевской районной больницы, больше всего боялась опоздать на работу. Уже немолодая женщина, оставшаяся с пятью детьми без мужа, убитого на войне, она каждый день вставала чуть свет, чтобы затопить печь, накормить детей, подоить козу. И спешила на поезд на станцию Катуар. И все-таки ей ни разу не удалось войти в вагон пригородного поезда, так как к семи часам утра все вагоны уже набиты были до отказа такими же, как она, пассажирами, едущими на работу в Москву или в сторону Москвы. Нюре Заботкиной в лучшем случае удавалось пробиться только в тамбур. В худшем случае она ехала на подножке, держась за поручень...»
Так начинается рассказ. Формально — это начало. Два абзаца. Но сказано — может показаться, вскользь, между прочим — то главное (дает услышать себя тема), что оправдывает, нет, на иной уровень поднимет последующее обстоятельное изложение несчастья, случившегося с Нюрой Заботкиной.
«Милицейский протокол тоже умеет интриговать не хуже авантюрного романа», — однажды заметил Павел Нилин.
«Язык милицейского протокола», позволительно будет мне так выразиться, для рассказов и повестей Нилина — дрожжи, закваска. Еще лишь краем уха уловив тему судьбы, тему жизни Нюры Заботкиной, мы, уже лишь сострадая, милосердуя, можем следить за тем, как она умещается на подножке, как виснут за ее спиной еще и еще — преимущественно мужчины (а она, вспомним, вдова!) — «матерясь в снеговой кутерьме, белые, как деды-морозы, и злые, как дьяволы»; вместе с Нюрой мы радуемся, что она, заслоненная со спины, «висела теперь не последняя снаружи, и... не без некоторого наслаждения вдыхала крепкий запах мужского пота, пригорченного махоркой от только что выкуренных на станции цигарок»; и с тревогой, вместе с Нюрой, обнаруживаем, что поручень, за который она держится одной рукой, «вдруг стал совсем шатким. Он, видимо, выскальзывал уже из верхнего гнезда, из верхнего крепления»... И уже как вселенскую катастрофу переживаем следом происходящее:
«— Оборвемся, — крикнула Нюра помимо воли своей. И услышала, как хрустнул поручень и что-то зазвенело и лязгнуло вверху.
И этот звон и лязг были последними звуками, какие она услышала в это утро»...
Откуда, казалось бы, способна черпать свое счастье, остатние капли его слабая, «маленькая» Нюра — битая, тертая, пуганая, теперь еще и изувеченная, пребывающая в полузабытьи? И однако теперь, именно теперь эта женщина счастлива в полной мере, ибо она, распластанная на больничной койке, «в той больнице, куда она ехала в последний раз на работу сутки назад, в той больнице, где она проработала больше десяти лет», слышит громче мучительной своей боли — чужую боль, боль больных. И еще.
Чудом выжившая, она теперь была счастлива тем, «что просто лежала, наслаждаясь покоем. Она слишком устала за эти десять лет, вернее, за пятнадцать, двадцать, двадцать пять лет или, еще вернее, за всю свою жизнь, с самого деревенского детства. Нежданно-негаданно ей выпал отдых в результате катастрофы. И она попала в привилегированное положение человека, за которым должны ухаживать, как она сама ухаживала за другими».
Его герои не бесполы, но они слишком глубоко пустили корни в землю, слишком породнились с этой землей — из которой вышли и в которую уйдут, — чтобы во все времена больше доверять традиционной народной морали (с четким представлением: что прилично и неприлично мужчине и женщине), нежели распущенности, именующей себя «свободой».
Мы привыкли в последнее время к прозе о том, «что такое плохо», и потихоньку забываем, что вообще-то писатель призван учить тому, «что такое хорошо»... У нас есть сегодня целый пласт прозы о «маленьком человеке»; но часто ли мы вспоминаем, что традиция эта — гоголевская, что его «маленький человек» в роковые минуты своего существования предстает героем в самом прямом значении слова?
Не гнаться нужно за временем, а спокойно встречать его лицом к лицу, стоя на своем. Этому уроку классики Павел Нилин осознанно или интуитивно следовал всю жизнь как закону, заповеди. И он остался писателем на все времена, честно делая свое дело и в 20-е, и 40-е, и 60-е годы.
Это дается нелегко. «До и после «Жестокости» — названа одна из статей о Нилине. Ее автор, В. Кардин, отталкиваясь от характеристики героя нилинской повести «Линия жизни» (1941) — Мити Попова, который «никогда не считал себя ни хуже, ни лучше других, жил всегда с ощущением, что он такой же, как все, как многие». Но вряд ли близок В. Кардин к истине, утверждая, будто бы «писатель и в главной своей книге (имеется в виду «Жестокость». — М. П.) и во многих повестях брал сторону героя (или героини) — максималиста, отвергающего какие- либо нравственные уступки, бескомпромиссного в большом и малом». Нилин спорит с этим утверждением всем своим путем «после «Жестокости»», да и многим из написанного «до того». Г е р о и з м нилинских героев как раз не в максимализме, не в упрямом нежелании идти на компромиссы, но в трезвом понимании общего закона, как выразился Пушкин, именно того, что максимализм чреват жестокостью. А «жестокость, жестокость, непримиримость, вражда, бой, — пишет о прозе Нилина его младший товарищ Михаил Рощин, — не могут быть нормой человеческого существования».
Сегодня-то мы видим: не было в творчестве Павла Нилина никаких «до» и «после»; и «Жестокость», даже учитывая шумный успех, десятки переизданий, экранизаций и инсценировок этой повести, все-таки неверно ставить над творчеством Нилина в предъявленном ныне объеме.
Нилин не написал и не напечатал свою повесть о жизни и смерти Веньки Малышева ни в 1936, ни в 1946 году. Написал и напечатал — в 1956-м.
Нилин не написал трагедию максимализма Веньки Малышева в 1936-м, но именно тогда написал трагикомедию максималистки Вари Лугиной — так как тогда ему слышалась его тема (и ведь в этом же рассказе — завязь нилинского «женского цикла» 70-х годов). Он не написал «Жестокость» в послевоенном 1946-м, но в эту пору написан «Негасимый огонь», заключенный словами: «...Случайно прочел у одного современного писателя в повести странную фразу. Герой его сочинения говорит, что борются только живые, а мертвые, мол, выходят из борьбы.
Неправда это...»
Тема — можно и так сказать — это идеал писателя, всю жизнь манящий его и всегда недостижимый. Идеал — живой характер, человек «как все», но и человек неповторимый.
Вот тема Павла Нилина и развивалась так, как ей должно было.
И, видимо, именно в 1956-м могла написаться книга, герой которой мучается и к нам обращается с мучительным вопросом, над которым и не задумались бы ни фадеевский Левинсон, ни Корчагин, ни конармейцы Бабеля: «Выходит, что я обманул их! Обманул от имени Советской власти! А начальник говорит, что этого требует высшая политика. Какая это политика, и для чего, и кому она нужна, такая политика, если мы боремся, не жалея сил и даже самой жизни, за правду, за одну только правду! А потом позволяем себе вранье и обман...»
Правда — значит высшая справедливость, соответствие этой справедливости. Павел Нилин очень хорошо понимал, что пока существуют вечные темы, пока за человеком остается право отстаивать свои убеждения, верить в свои идеалы, любить и боготворить свои святыни, быть просто самим собой, не претендуя более ни на что и никого при этом не подавляя, — до тех пор и установление на земле упомянутой правды сопряжено будет с муками.
Во имя чего? И какой ценой?
Два эти вопроса — в каждом рассказе и повести Нилина. Он не смог бы выдержать сквозную тему в течение полувека работы, если бы с самого начала не знал истинную цену жестокости (столкнувшись с нею хотя бы по службе в угрозыске). И мы не говорили бы о сегодняшнем резонансе его прозы, если бы он с самого же начала не служил верой и правдой гуманистическим, человеколюбивым заветам классики.
Когда мы будем читать и перечитывать Нилина, мы, конечно, заметим множество связей, перекличек, скрытых цитат «из себя» и из всего массива литературы, тех «важных подробностей», что так ценились мастером... Мы и в «Жестокости», зачитанной до дыр, вполне возможно, увидим лишь один из подступов к заветной, главной книге — равно как и в «женском цикле» рассказов.
«Загадочные миры», последняя работа Нилина, дают нам повод для такой догадки. Взыскательный автор — вспомним цитату в начале статьи — хотел их доделывать; часть этой работы исполнила его вдова — М.И. Юфит. Но и в таком виде, в вероятной неполноте этого последнего произведения Павла Нилина, его тема звучит внове, как никогда прежде. Это вещь итоговая, хотя история, поведанная в «ей, относится к 1923 году. Без инженера Трувера, его бесед с юным работником угрозыска, без его странных слов о том, что все люди — загадочные миры и каждый человек — это мир неожиданный, без последних, не отшлифованных до обычного блеска страниц Павла Нилина мы очень многого не узнали бы о нем. Но так же многое не было бы нам сообщено и о времени, о его изменчивости и скоротечности, его податливости и теплоте — если жить в нем по совести и долгу, и о его холодной жестокости — если воображать, что оно и все кругом создано для тебя одного.
«Загадочные миры» — едва ли не самое поэтичное из поздних произведений Нилина — задумывались в 1978 году, когда между делом записались и короткие размышления о природе поэзии.
«Нет особого открытия, — писал Нилин, — что нередко писатели, пишущие прозой, больше поэты по самой сути своих сочинений, чем те, что старательно нанизывают рифмованные строчки.
Что касается меня, то в мою жизнь поэзия вошла раньше, чем я узнал, что она называется поэзией. Она вошла, как, вероятно, и в сознание всех других людей, вместе с песенкой матери у моей колыбели и не угаснет у борта могилы».
Л-ра: Литературное обозрение. – 1986. – № 6. – С. 67-70.
Произведения
Критика
- Жестокость и милосердие
- К вопросу о трагическом в повести П. Нилина «Жестокость»
- Об одном библейском мотиве в прозе П.Ф. Нилина














Поділитися