Мечты и фантомы
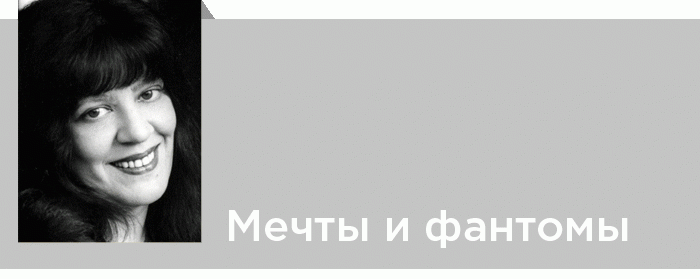
М. Золотоносов
У литератора Татьяны Толстой, мне кажется, вполне счастливое начало: печатается с 1983 года, опубликовала с десяток рассказов; и нет ни одного, я уверен, сколько-нибудь чуткого на настоящую литературу человека, который не заметил бы ее прозу, не выделил это явление из потока. Дело, я думаю, не в «литературной» фамилии. Необычно сочетание безжалостности, пугающего всеведения о герое с какой-то литературной «игрой», сочетание, от которого мы отвыкли.
На него сразу обращаешь внимание, и вряд ли оно появилось незаметно для самой писательницы. Что я имею в виду? Глубина и серьезность могут вдруг раствориться в какой-то легкомысленной интонации, иронии, смехе, неожиданной легкости отношения.
«Петерс» — повествование о горестной я одинокой жизни неудачника — завершается неожиданно светлым финалом /не благополучным, но именно светлым/. «Да не заслужил он света, — все кричит в читателе, — финал приклеен...»
«Охота на мамонта» — конец рассказа вызывает просто недоумение, ощущение той «чистой филологии», что, по словам В.О. Ключевского, «производит впечатление человека, который пустившись в путь, второпях забыл, куда и зачем он идет».
Нехватка мастерства? Но тут какая-то особая авторская черта проявляется, я чувствую; безвыходные ситуации, которые сама же и конструирует, Т. Толстая не выносит, она отменяет их литературными средствами, условно. Может быть, в этом ее слабость как писателя, может, как человека, а может, таков у нее образ мира, который не похож на хорошо сделанную пьесу, где к финалу все обязательно должно быть разрешено, но все так и остается неоконченным.
Или вот, например, герои Т. Толстой, они кто? Удачливые, быстрые, кудрявые, со звонкими именами — эти проносятся мимо, смеясь, улетают с ветром. Остаются грузные, беззащитные, нелюбимые, одинокие, «добавочные, не вписанные в окоем» /Цветаева/, не взятые на праздник. Перечисление создает впечатление пессимизма, но сами-то рассказы, как это ни странно, его не производят. Поверх безрадостного сюжета, как по сырой штукатурке, выполнена яркая литературная роспись.
А вот еще парадокс. Русская литература приучила к особому отношению к «маленькому человеку», к любви, сочувствию, усиленной деликатности /не случайно еще Макар Девушкин возмущался беспощадностью гоголевских описаний — точное наблюдение!/. А у Т. Толстой в глаза бросаются злая наблюдательность, спокойствие психолога, фамильярность в обращении с Жизнью и Смертью — на «ты», без суеверного пиетета. Тут чувствуется непривычная, «бесслезная» традиция. И отношение к герою какое-то «не такое».
Вот из поразившего больше всего: «За углом, на асфальтовом пятачке, в мусорных баках кончаются спирали земного существования. А вы думали — где? За облаками, что ли? Вот они, эти спирали, — торчат пружинами из гнилого разверстого дивана. Сюда все и свалили. Овальный портрет милой Шуры — стекло разбили, лицо смято... Старушечье барахло — чулки какие-то... Кувшин с отбитым носом. А бархатный альбом, конечно, украли. Им хорошо сапоги чистить. Дураки вы все, я не плачу — с чего бы? Мусор распарился, растекся на солнце, пачка писем втоптана в жижу. «Милая Шура, ну когда же...», «Милая Шура, только скажи...»
Думая о прозе Т. Толстой, я все время навязчиво вспоминаю булгаковскую фразу: «Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы». В рассказах многое вызывает протест, несогласие, беспокойство, отвращение даже. И несмотря на все — желание погружаться в этот плотный воздух, вязкий быт, который столь адекватно выражен в стиле, таком же вязком, бесконечно продуманном, безвоздушном, но который тем не менее пьешь, как приворотное зелье.
О стиле в рассказах Т. Толстой можно говорить много, и одно будет противоречить другому. Поначалу возникает ощущение, что на стиль расходуются едва ли не все запасы творческой энергии, что стиль, как глазурь, не дает проникать внутрь, отчего вместо психологического «бурения» происходит виртуозное скольжение по поверхности.
Но с другой стороны, как точно и выразительно обилие метафор, метонимий, сравнений создает ощущение непроницаемости, плотности, духоты. Куда ни бросишь взгляд, все предопределено, все говорит и наступает, все имеет смысл, каждый предмет, каждая деталь исполнена значения, что-то сулит.
«...По воскресеньям они отправлялись в зоологический музей, в гулкие, вежливые залы — смотреть остывших шерстяных мышей, белые кости кита; в будни они входили в магазины, покупали мертвую желтую вермишель, старческое коричневое мыло и глядели, как льется через узкое жерло воронки постное тяжелое масло, густое, как тоска, бесконечное и вязкое, как пески аравийских пустынь» («Петерс»).
Значительность и бытийную торжественность приобретает «жизни мышья беготня», ритмом и сравнениями прямо на наших глазах алхимически превращаемая в некую «музыку сфер!», в которой все предначертано, все известно заранее, на фоне которой личные усилия тщетны, неумны, обречены так и остаться мозговой игрой. Не остается ничего случайного, непреднамеренного, неумышленного, а потому и нет ощущения жизни, для которого необходимы свобода, простор, чувство полета и незакрепленности, предметы, события, люди, просто описанные, а не охваченные смыслом и целью.
Человек пропадает в этом мире: его вытесняет вещь, в буквальном смысле отнимая все причитающиеся человеку эпитеты и атрибуты, отнимая у него возможность управлять собственной судьбой. Человек существует — и больше ничего.
Может быть, по отношению к этой теме Т. Толстая еще не вполне заняла «позицию вненаходимости», не овладела выразительными средствами, возможно, «стиль» и «психология» еще спорят друг с другом сами, в обход авторской воли — это иной вопрос. Но тенденция ощутима, принцип ясен, и игнорировать его нельзя. Потому логичным кажется, что Т. Толстую не очень-то интересуют конкретные причины — социальные, психологические, — объясняющие характер героя, его жизнь. Всегда найдется кто-то или что-то, дающие внешним и внутренним обстоятельствам имя. Но это не более, чем имя, — один из символов, одно из многих обличий обступившего со всех сторон мира. И судьба в нем — не безжалостный и неотвратимый фатум классической трагедии, а многоголосая, многоименная стихия бытовых обстоятельств — как сказано у А. Кушнера, «не большая судьба, а домашняя, с маленькой буквы, тем не менее с ней как-то связано звездное небо».
В рассказе «Петерс» эта борьба между человеком и вещью, миром вещей, прочно замкнутым в своих пределах, воссоздана с особой продуманностью, я бы сказал, совершенством. Тут уже все оказывается умышленным — вплоть до карточки с котом в немецком лото, Черного Петера, который вечно доставался герою, означая «дурака». Все обязательно таит второй смысл. Если Т. Толстая описывает, как Петерс, женившийся на «холодной твердой женщине с большими ногами», покупал замороженного цыпленка, то интересует ее, конечно же, не цыпленок за рубль семьдесят пять, а сам Петерс, отстраненно увиденный через подобье — сюрреалистический натюрморт — зеленое, бурое, алое, голубое, — описание которого выполнено к тому же почти правильным хореем: «...Петерс нес домой холодного куриного юношу, не познавшего ни любви, ни воли — ни зеленой муравы, ни веселого круглого глаза подруги. И дома под внимательным взглядом твердой женщины Петерс должен был сам ножом и топором вспороть грудь охлажденного и вырвать ускользающее бурое сердце, алые розы легких и голубой дыхательный стебель чтобы стерлась в веках память о том, кто родился и надеялся, шевелил молодыми крыльями и мечтал о зеленом королевском хвосте, о жемчужном зерне, о разливе золотой зари над просыпающимся миром».
Герой пытается обрести свободу «внутри». В мечтах «он читает ей вслух Шиллера. В оригинале. Или Гельдерлина... «Оставьте же книгу», — говорит она. И лобзания, и слезы, и заря, заря...»
Внутренний и внешний миры приводятся в состояние войны, агрессивной банальности противопоставляется безумие Гельдерлина. Но поздно: время романтического двоемирия прошло, миф исчерпал себя, и победу всегда одерживает «проза жизни», не дающая одинокому мечтателю покоя и уединения в вечном и надежнейшем его убежище. Весь образный ряд — «воздух», «полет», «крылья» — ведет в никуда: воздуха нет, да и опереться не на что, чтобы взлететь. Желание сильных чувств, воздуха так и остается неутоленным.
Поэтические по своему внутреннему «устройству» и задействованным средствам рассказы повествуют о торжестве прозы в нелитературном, «реальном» значении этого слова. Не случайно употребляю я казенное «задействованным». Такое ощущение, что средства именно задействованы — есть в этом какая-то искусственная «умственность», контраст создан «механически», идея — если я ее, конечно, верно понимаю — слишком ясна, даже банальна: побег в придуманный мир не увенчивается успехом.
«воспарение» недостижимо. Может быть, потому, что мир этот слишком литературен, вторичен, а образы, пошедшие на его сооружение, банальны, холодно-вычурны и уже давным-давно отработаны? Но тут автор словно проверяет свой собственный литературный инструментарий; способен он еще оживлять мертвое и косное, или все силы исчерпаны, творчество бессильно. Мне кажется, автор решает тут какие-то собственные проблемы, за неверием в силу мечты героя едва скрыто сомнение в собственной творческой силе, способной что-то существенное изменить в мире.
«Бедный мой мир, — мысленно сочиняет балладу Игнатьев, герой рассказа «Чистый лист», — твой властелин поражен тоской. Жители, окрасьте небо в сумеречный цвет, сядьте на каменные пороги заброшенных домов, уроните руки, опустите головы — ваш добрый король болен... Очаги заброшены, и зола остыла, и трава пробивается между плит там, где шумели базарные площади. Скоро в чернильном небе взойдет низкая красная луна, и, выйдя из развалин, первый волк, подняв морду, завоет, пошлет одинокий клич ввысь, в ледяные просторы, к далеким голубым волкам, сидящим на ветвях в черных чащах чужих вселенных».
Не правда ли, красивая тоска, изящная, романтичная? Пейзаж раннего средневековья, первые города, одинокими бессильными островками стоявшие посреди враждебного мира, управляемого некой верховной волей...
«В ушах его били торжественные колокола, и глаза прозревали доселе невидимое. Все дороги вели к Фаине, все ветры трубили ей славу, выкрикивали ее темное имя, неслись над крутыми грифельными крышами, над башнями и шпилями, змеились снежными жгутами и бросались к ее ногам...»
А это уже из другого рассказа, из «Петерса»: «куртуазный универсум»; весь в предчувствии любви, мечтательно и доверчиво настроенный мальчик, не понявший правил игры, обольщавший себя надеждами на то, что мечты сбываются, стоит только очень захотеть, а таинственный и непонятный мир доброжелательно настроен по отношению к нему...
Тут образуется боковой мотив: претензии к жизни, разрушающей детские обманы, и счеты с детством, с детской доверчивой мечтательностью, детским образом мира — говорящим, таинственным, переполненным смыслом. У Т. Толстой детство — это пространство-время, по всем признакам противоположное тесному миру вещей-символов, обступившему человека («Детство было садом. Без конца и края, без границ и заборов»). Но оно же источник размагничивающий фантазий и будущих разочарований, «лавка жулика», где человек совершает свои первые обманные покупки.
Не случайно публикации Т. Толстой начались с рассказов, посвященных детским фантазиям, милой убежденности в том, что мир «весь пропитан таинственным грустным, волшебным, шумящим в ветвях, колеблющимся в темной воде» («На золотом крыльце сидели», «Свидание с птицей»), и не случайно, что уже там наивность непрерывно разоблачалась, сопоставляемая со «взрослым» зрением: «Что же, вот это было тем, пленявшим? Вся эта ветошь и рухлядь, обшарпанные крашеные комодики... И это пело и переливалось, горело и звало? Как глупо ты шутишь, жизнь!»
Ребенок для Т. Толстой — герой особый: его мироощущение сродни писательскому, он верит в тайны мира и свои возможности демиурга. Но и за опровержением детского зрения стоят собственные же сомнения: не только в преобразующей силе творчества, но вообще в необходимости искусства — этой странной деятельности, которая состоит в выращивании тех самых «тревожных цветов». Захочет ли их человек, нужны ли они будут ему, не откажется ли он от них?
«Мужик пашет и знает, что делает добро, о котором никакой идиот не скажет, что оно не нужно. А поэт...
Когда ты держишь зерно на ладони и суешь в рот кусок хлеба, ты не скажешь, что это ничто, ерунда и проч. Когда ты читаешь рассказ, то... стоит только быть в плохом настроении, чтобы тотчас уверить автора, что это не рассказ, а галиматья, а автор спокойно может впадать в тоску». Это из письма Юрия Казакова тридцатилетней давности.
Сомнения писательские у Т. Толстой те же, а вот социальная ситуация за тридцать лет существенно переменилась. И у Толстой это точно выражено, дан верный симптом. Антитезой творчеству оказывается не «хлеб», а «вещь». Все это и сошлось в фантастическом рассказе «Чистый лист». Его сюжет: некоему Игнатьеву (помните, автор меланхоличных баллад) по знакомству удаляют душу, Живое, торжественно именуется она в рассказе.
«Ты пойми: вот тут, — Игнатьев показывал на грудь, — Живое, Живое, оно болит!» И тогда собеседник Игнатьева, школьный еще товарищ, предложил Живое удались — оказывается, такие операции уже делают — и избавиться от тоски, от страданий, от обступивших черных мыслей. Душу удаляют, чисто, гигиенично экстрагируют, как называет эту процедуру доктор — загадочный ассириец с черной бородой и бездонными воландовскими глазами.
В Игнатьеве совершается разительная перемена: изящное платьице меланхолической мечтательности спадает, и остается один хамский остов: жестокость, цинизм, напористая «биология», очищенная врачебными средствами не только от тоски, но и от комплексов.
Правда, писательница назвала «Чистый лист» самым нелюбимым рассказом. Может быть, она испугалась своих претензий на жизненную необходимость для человека всех этих «духостроителъных» страданий и сомнений, которые так тесно связаны с восприятием искусства? Ведь каждый, в конце концов, волен жить так, как хочет.
Нет, за нелюбовью к этому рассказу стоит, мне кажется, другое и весьма важное: неразрешенные сомнения в своем писательском праве на моральную требовательность к человеку, на этические императивы. Отсюда и неуверенность в финалах, от которых либо «пахнет чернилами», либо их просто нет. Тут что-то в самой писательнице еще, мне кажется, не решилось окончательно, и именно вот в этих-то рассказах и решается. Возможно, решается вопрос о самой писательской позиции — вне и над героями, вне и над собой. Пока еще Т. Толстая слишком «внутри» своих рассказов, слишком близко к героям — оттого и уход от этических оценок, оттого такая концентрация ее и их внимания, в конечном счете, на себе, на своих проблемах.
«Река Оккервиль». Герой рассказа — Симеонов, анахорет. Общается с одним человеком — старинной певицей Верой Васильевной, образ которой в подробностях создан его воображением. Может быть, Симеонов фантастическую Веру Васильевну даже любит. Каждый вечер он проводит у грамофона, такого же старинного, как и героиня его грез, романсами растравляет свое воображение, тоскует о жизни, которой никогда не знал, о женщине — томной наяде начала века. И вдруг выясняется, что она — предмет любви, жива, более того, живет где-то рядом, что она не подслеповатая, бедная, исхудавшая и сиплая, как хотелось Симеонову, а огромная, белая, чернобровая, раскатисто смеющаяся. Миф рушится, жизнь Симеонова «переехана пополам». Ситуация воспринимается как анекдотическая, сама Т. Толстая изо всех сил подыгрывает читательскому веселью. Но ошибается тот, кто в смехе, в самом издевательстве над мечтаниями, которыми старательно окружает себя человек, не почувствует собственной авторской тоски от исполнившегося и желания неисполнимого, из которого вырастает чуть ли не реквием по разрушаемым жизнью мечтам и идеалам, разрушаемым легко, небрежно, неизбежно. И сама эта обескураживающая легкость заставляет вносить в реквием шутовские номера, снижать серьезный настрой, прибегать к разным условностям.
Впрочем, противоречия тут во всем: разоблачение мечтателя утверждает мечту как высшую ценность, но исполнение мечты трактуется как самоисчерпание человека, его конец, а желание любви и счастья становится источником трагедий, ибо манят они тех, чей удел — «остывшие шерстяные мыши».
Правда, есть одно исключение — рассказ «Соня», где мечта о любви не рушится, где «жизнь не отбирает» (но опять же в каком — в парадоксальном смысле). Может быть, Т. Толстая просто пожалела героиню, вообразив, что должна была бы почувствовать немолодая, некрасивая, наивная и одинокая женщина, Соня, узнав, что многолетний ее «роман в письмах» с Николаем — фантом, проделка смугло-розовой, по-змеиному элегантной Ады?
«Соня» — рассказ, характерный для Т. Толстой сложным отношением к герою: вина и беда, осуждение и жалость возникают одновременно. Действительно, есть в таком отношении автора к своему персонажу что-то нелитературное, что-то от общения с живым и близким человеком, который то разозлит, то разжалобит. Вот и приходится иногда не любить попавших в беду, иногда — жалеть виноватых...
Говоря словами Тынянова, проза Т. Толстой — «материал с ощутимой формой». Не будь этой «ощутимости», рассказы с их устойчивой тягой к «вечным» темам и образам, с интересом к «последним вопросам, к столкновению горнего и дольнего, мечты и реальности, возможно, воспринимались бы как нечто нестерпимо банальное или вторичное. Но Т. Толстая этого не боится, потому что знает: ее надежно спасают непрозаическая нагруженность, можно сказать, перегруженность текста тропами, поэтический принцип и в выборе тем, и в построении образной системы. Но это нельзя понимать однозначно: что все держится на стиле, прикрывающем зияние в содержании, а глубина и многозначительность — величины абсолютно мнимые. Тут передается вольно или невольно, не знаю, — видимость многозначительности и глубины, которая свойственна жизни, ее способность морочить человека, так до конца точно и не знающего, что серьезно, что глубоко, а что банально. Эта относительность — самое серьезное и абсолютное в прозе Т. Толстой. Но для ее создания нужна критическая масса «выразительного вещества», при которой банальное теряет однозначность.
«Когда знак зодиака менялся на Скорпиона, становилось совсем уже ветрено, темно и дождливо» («Река Оккервиль»). Это вместо: «В конце октября...» Но что может произойти в конце октября? Комический эпизод с Симеоновым, не больше. Дескать, мечтал, суетился, а жизнь в ответ: «не щелкай клювом». А знак зодиака... Тут рывок в космос, к звездам, хотя настоящие они или вырезанные из золотой бумаги — неизвестно, снизу не видно.
«Кажущаяся семантика», возникающая по законам поэтического текста, отражает обманность мира. Обычными средствами бороться с ней невозможно. Но есть любовь, и есть творчество, которое способно эту обманность преодолевать, овладевать ею, отстранять ее от себя, превращая в материал — в тему, в выразительные средства. Вдохновение спасает от чувства ущербности, от банальности и абсурда. Так антагонистом героев оказывается автор, антитезой из тупикового существования — творчество, дающее возможность пересилить что-то внутри себя, сполна выразить нечто психологически застоявшееся и мучающее тоской, сомнениями, страхом перед одиночеством. Не случайна потому в рассказах Т. Толстой фигура автора, не подверженного болезням и неясным предутренним страхам своих персонажей и потому спокойно расхаживающего между ними, с ними заговаривающего.
Т. Толстая не пытается подсказать своим «малым и сирым» героям разумный выход, не учит их, как жить, а говорит: «Живите, как хотите». В этом ощущается наибольшая жестокость, впрочем, ощущается только в том случае, если приступать к литературному делу с заранее сформулированной программой направленного в мир «учительного слова».
Может быть, вопрос писателю, художнику: «как жить?» и есть результат «двухвековой благородной привычки», но нет ли за ней еще более долгой привычки к духовному опекунству, тяги к всеобъясняющей проповеди, приходящей со стороны? А если писательский труд имеет иногда другую цель (а так, мне кажется, у Т. Толстой) — объяснение всем закономерностей собственного духовного развития, обоснование творчества как способа существования, нет, как способа выживания? Тут другая традиция, ее можно не принимать, но она все равно останется, традиция, укрепившаяся в двадцатом веке. Художник опять выставляет себя на всеобщее обозрение, словно говоря читателю: творчеством живи и спасайся, вне творчества — умри.
Судить прозу Т. Толстой сейчас надо по этим законам. Многое в ней проявилось уже достаточно четко, но главного, мне кажется, все-таки еще не произошло — герой-художник не вышел наружу. А произойти это должно. Тогда все логически сойдется, возникнет и иное отношение к персонажу.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1987. – № 4. – С. 58-61.
Произведения
Критика














Поділитися