Григорій Квітка-Основ'яненко. Знахарь
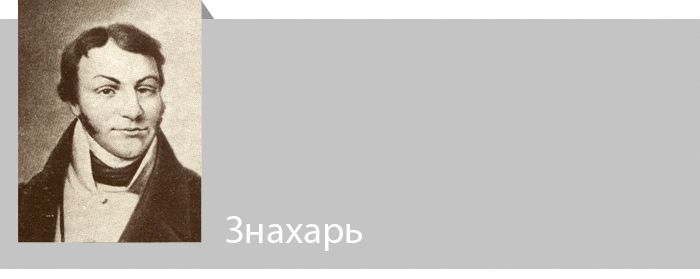
Великое дело знахарь! Почетнее его нет не только в том селении, где он живет, но и в целом околотке. Что ваш атаман, что ваш голова! Да чего? Сам пан писарь волостной, перед которым и голова, встречаясь с ним на улице, за три шага торопится снимать шапку, упреждая его поклоном и накрывая голову гораздо после него, когда пан писарь едва только приподымет свою шапку да поскорее и наденет снова, так вот, и эта важная персона, пан писарь, говорю я, перед знахарем — ничто!
Посмотрите только, когда знахарь выйдет из дому, что за важными его занятиями случается очень редко, посмотрите, когда он покажется на улице, что тут происходит? Кто бы ни шел, хоть за самым необходимым делом, завидев дядюшку Радивоновича, как бы далеко он ни был, даже в трескучий мороз, хлопчик ли то, или лысый старик, все спешат снять шапку, заранее сходят с дорожки, по которой идет знахарь, быстро смотрят на его приближение и, когда он с ними поравняется, отвешивают ему поклон, какого уже не можно ниже, и с нетерпением ожидают к себе внимания. Вот в конце улицы сидят молодицы кучами, собравшиеся работать вместе, чтоб дело шло «скорее». Чего они не нанесли с собою? Тут и гребни для прядения, и витушки для мотания ниток, и скроенные рубахи, и пяльцы ручные, в которых впялено полотно и уже начаты красными нитками вышиваемые хустки или рукава к рубашке... Все повынесено молодицами, засевшими в кружки; перед каждою ее работа, и они работают, думаете вы?.. Куда! Некогда! Мотря Сюсюрчиха рассказывала преудивительную историю, как она вчера вечером доила корову, да не могла отыскать глечика, чтоб вылить в него молоко... Видите, какое приключение! Все разом опустили работы из рук, положили веретена, пороняли иглы... И еще не пришли в себя от удивления, как вдруг Грициха, та, что живет подле попова колодязя, начала рассказывать пренеобыкновенное обстоятельство прошедшего месяца, как она искала по всей хате ключа от скрыни, а ключ очутился у нее же, у пояса подле калитки! Грициха рассказывает это происшествие в тридцать седьмой раз, но она такая мастерица рассказывать, что все с одинаковым вниманием слушают ее, забыв о работах. Так у них все идет, как вот Явдоха Шпонячиха (взятая из господского села, в молодости служившая при барышнях и даже ездившая с ними в город, где видела, как собаки танцуют под скрипку) только было начала рассказывать что-то интересненькое, ан все молодицы, разом откинувши работы, вскочили, вытянулись в струнку, сложили руки да с почтением и глядят вперед... Чего ж бы это? Чего? Завидели знахаря, который медленно идет вдоль улицы. Не можно же против него быть незвычайною, надобно честь отдать, низенько поклониться. Не сделай-ка этого кто хочешь, как бы ни был он стар или мал, уверяю вас, даром не пройдет. Старик еще не дойдет до дому, а уж непременно либо споткнется, либо палку из рук выронит, либо закашляется сильно. На молодого же или нападут собаки, так что едва отобьется от них, либо повстречается товарищ да и заведет его совсем не туда, куда он шел, либо, пожалуй, не застанет того, к кому спешил.
Женщина, не отдавшая почтения знахарю, не менее потерпит: того и смотри, при шитье сломается игла, или муж без причины будет сердиться, или детей не скоро забаюкает. Будь же то девка, уверяю вас, любимую ленту из косы потеряет, ошибется в узоре при вышивании хустки будущему жениху, или что-нибудь другое неприятное случится... Да таки всякий, кто б ни был, непременно почувствует на себе гнев знахаря за непочтение; если не в то же время, так на другой, на третий день. Беда придет, пожалуй, и через месяц, а все же придет, так уже не минет! Ого! Великий человек знахарь! Опасно прогневать его!
Зато какое утешение, когда знахарь к кому внимателен! Если на поклон при встрече он приподнял шапку (что весьма редко) да взглянул приятно или еще потешил ласковым словом, тогда такой счастливец «ничем не уважает», и хотя бы два десятские пришли вести его в волостное правление, не боится уже он ничего, в совершенной уверенности, что знахарь к нему милостив и сйлою своею не допустит изобидеть его. Хозяйка, услышав от дядюшки Радивоновича ласковое слово, спокойна: борщ у нее сварится отлично, напрядет она в тот день много, и дети будут крепко спать всю ночь. Если же девка удостоена такой чести, то она в полном восторге и каждый вечер уже выглядывает старост от подмеченного ею парубка.
Так-то знахарь может одним словом осчастливить всякого человека! Великое же это слово! Зато уж не разговорится он много, а разве только чуть-чуть что выговорит, да и то сквозь зубы. А подите же вы с ним, какую силу имеет и ничтожное слово его! Разберите сами, иному скажет он: «А! Что? Да?» Тот и не поймет, к чему оно сказано, да уж после и озирается. Или скажет: «Идешь?» Тут двояко: когда ласково, то все будет хорошо; когда ж с насмешкою или с сердцем, то хоть и не ходи: уверяю, не будет успеха. Попробуйте, когда не верите.
Знахарь вполне понимает свою силу, потому-то и размеряет, на кого как взглянуть, кому что и как сказать. Он редко выходит из дому, но уже не сделает и шага не рассчитанного, не продуманного прежде. Вот идет он, идет, и хоть вовсе не по дороге, а пошел же мимо волостного правления. Там собирается громада потолковать о каком-то общественном деле, с которым нужно спешить: завтра думать будет поздно. Собралось уже большое число хозяев и стариков, голос которых уважается громадою; не подошло еще нескольких для полного числа. Толкуют хорошо, почти положили на мере. Уж пан писарь, в ожидании прихода прочих, готовится писать приговор, как вдруг проходит мимо дядюшка Радивонович, и не к волости же идет он, а проходит только мимо. Стал напротив, посмотрел на собирающуюся громаду, подумал, покачал головою, отворотился... да и пошел себе своею дорогою.
«Бросайте дело!» — вскрикнули все сшедшиеся на пораду, кинувшись к своим палочкам. Надели шапки и пустились расходиться. Сколько ни удерживай их голова или хоть сам пан писарь, никто не останется. Все говорят в один голос: «Не будет ладу с нашей рады, разве не видели, как дядюшка Радивонович закачал головою? Жди добра! Да хоть до ночи толкуйте, ничего не будет! Недаром же он покачал...»
Разойдутся все, несмотря ни на какую надобность, ни на какие требования своего начальства. Что ж? Так и вышло, как предсказал знахарь: покачал головою, дело-то и не сделано! Вся волость твердит об этом и удивляется силе знахаря!
В другом случае, когда, напр., нужно прибавить пану писарю жалованья, придать работников, земли нарезать и т. п., бывает иначе. Видят пана писаря, вечером пробирающегося глухими переулками; под полою свиты несет он что-то, да заметно, что и за пазухою есть кое-что, и в обеих кишенях не пусто. Повстречается ли с ним кто и, как должно, сняв шапочку, низенько поклонится и звычайно спросит: «А куда вас, пан писарь, так нерано бог несет?» Тот, едва дотрагиваясь рукою до своей высокой смушковой шапки, отвечает ему сухо и с досадою: «Маю дело до человека. Знай себя, Клим, не расспрашивай, чего тебе не нужно». Этот с облизнем себе пошел, а пан писарь прокрадется к самому знахарю и от него уже поздненько возвращается домой, мурлыча под нос что-то вроде песенки. В карманах его, за пазухою и под полою уже пусто...
Вот и сходится громада. Все почетные старики и настоящие хозяева уже собрались, не смели уклониться: послано от волостного правления объявить всем, что есть дело важное, что неотменно нужны на пораду сами хозяева, чтоб молодых не высылали на громаду, а сами бы приходили. Как тут ослушаться? Пособрались, уселись. Голова, прокашлявшись и посматривая на пана писаря, начинает предлагать громаде «о необыкновенных трудах пана писаря, как-де он, не заботясь вовсе о своем хозяйстве, не собирает для себя ничего, а все время посвящает на благо общее: ночь и день пишет бумаги, и начальство все его бумаги похваляет, и наша волость идет в отличных». За такие полезные труды пана писаря, когда он сам о себе не радеет, надо поблагодарить его всем обществом. Тут предлагается мера награды: собрать по чем с души и поднести пану писарю, или отдать ему во владение такую-то земельку, или что-либо тому подобное.
Пан писарь стоит в сторонке. Услышав такое предложение головы, он с изумлением на него смотрит... Когда же дойдет дело до вознаграждения, махнув рукою, он с неудовольствием и гневом отворачивается, на глазах громады чешет с явным негодованием свой чуб и как будто говорит: «Какой вздор несет голова! К чему это? Стоило ли беспокоить добрых людей и собирать громаду!»
На предложение головы самые почтенные из стариков отвечают с великим уважением, что им всем известны труды пана писаря, известны его недостатки (это, разумеется, о жизненных потребностях) и что нужно бы ему пособить, но времена не те... Неурожай хлеба...
— Падеж скота...— подхватывает другой, объясняя бедственные последствия.
— Увеличение числа неимущих, повинности за которых легли на обществе...— прибавляет третий.
— Стеснение от проходящих команд... Починки дорог... Возка суда...— говорят другие.
Тут посыплются всеобщие возражения, ведущие к тому, что не то время, чтобы думать о награждениях.
Голова заметно смущен подобным противоречием, пан писарь, напротив того, вне себя от удовольствия! Движением рук, мотанием головы он, кажется, поддерживает каждое мнение, опровергающее предложение. Если бы не противно было приличию, он верно добавил бы многое к доводам стариков. О уже не может выдержать и говорит вполголоса стоящим вблизи:
— Бог знает, что это вздумалось пану голове Уласовичу хлопотать обо мне! Я последнего готов решиться скорее, нежели с миру, с добрых людей, взять хоть нитку.— Так он говорит с глубоким чувством, а сам поминутно скоса поглядывает в окошко...
Рассуждения идут к концу, голове не остается ничего более прибавить. Но вот в углу от дверей отшатнулся народ, говорящие примолкли.
— Что там? Кто там? — спрашивает встревоженный голова, воображая, не набежал ли становой.— Кто ж
там?—повторяет он, присматриваясь в угол.
— Дядюшка Радивонович пожаловал! — шепнули в толпе, с почтением произнося это имя.
Голова, не оставляя своего места, привстал, кланяясь дядюшке Радивоновичу и прося его пожаловать на почет, в высшее место, ссадил находившихся возле, знаками повелев другим расступиться перед важным посетителем. Народ посторонился. Знахаря почти ведут под руки. Проходя, он посматривает на все стороны, ни на ком не останавливая внимания; на иного, однако же, взглянет приветливо, иному даже улыбнется! Дойдя до головы, знахарь поклонился с уважением, но отказался сесть подле него, а начал осматривать всех ближайших, которые почтительно встали. Тут выбрал он какого-то из старичков, известного по простоте, но кроткого со всеми и доброго к бедным, и, отведя стоявших возле, занял место старика, усадив его близехонько к себе с приговоркою: «С тобою мне хорошо!» С завистью глядя на старика и тут же перетолковывая слова дядюшки Радивоновича, все говорили шепотом:
— Не знаем, кому-то из них лучше! Посмотрите, как этому старичку ни отсюда, ни оттуда пошлется счастье!
И точно, не прошло же ему даром такое отличие: через две недели купил он корову, и что-то дешево, а она возьми да и роди ему через полгода отличного теленка! Так вот что значит внимание такого человека, как дядюшка Радивонович!
Пожалуйте же, что делается на громаде? Все замолкло. Дядюшка Радивонович сидит себе, наклонив голову, и палочкою своею чертит что-то по земле. Замечающие каждое движение его стараются истолковать, что он это и «на чью голову» чертит.
При всеобщем молчании знахарь вдруг поднимает голову и спрашивает:
— А что, пан голова! О чем вы радитесь?
Голова объясняет о сделанном громаде предложении.
— Нуте, нуте, толкуйте, а я послушаю умных речей! — сказал знахарь и наклонил опять голову. Между тем
улыбка его из-под густых рыжеватых усов выражала: «Увидим, что скажут!»
— А вот, люди говорят... Говори-ка, Фома, что ты говорил...— сказал голова, обратясь к белобородому
старику, первому начавшему возражения.
— Да я говорю...— начал было Фома твердым голосом. Но тут взглянул на него знахарь таким оком, что
Фоме всю спину морозом обдало.— Да вот и люди говорят... Говорите же, дядьки...— уже едва произнес Фома и вдруг замолк с трепетом в сердце, желая угадать, что заболит у него, когда так взглянул дядюшка Радивонович. А уже даром такой взгляд не пройдет!
Прочие дядьки молчали. Знахарь же, посматривая на всех, как будто требовал, чтоб каждый высказал свое мнение.
— Да мы... мы говорим-то ,.. мы ...— послышалось было с разных сторон; но каждый из начинавших встречал взор знахаря и, теряя последующие слова, умолкал.
Выждав несколько и не слыша ничего, знахарь с неудовольствием встал и с выражением упрека начал так:
— «Мы-то! Мы-то!» Великое светило, что наш ктитор Данило! Ох-ох-ох!—Тут, облокотясь на свою палку, он продолжал с воодушевлением: — Примером сказать, хлеб у нас худо уродился, а сена и того меньше, пусть будет у меня бедная парка волов, кормить нечем, зимою пропадет. Жена пристала: «Продай, да продай! За те деньги хлеба накупим, пропитаемся». Я и так, но дождался молодого месяца, посмотрел на зори: не выходит продавать. Не продал, а давай волами работать. Нет волам отдыха — беспрестанная работа, да беспрестанный же и заработок. Деньги водятся беспереводно. Съели волы сено и солому, кормить опять нечем, так вот тут бы и продать их? Нет! За выработанные ими деньги накупил я им опять корму. Они едят мои деньги, однако зарабатывают их снова. Хоть я и потратился, да будет же мне и польза! Вот так-то, добрые люди, рассуждайте обо всем. Сказано: от человека до скота, а вы гадайте себе, что надобно от скота и до человека! Разжуйте, что я сказал вам! —Тут он умолк и приклонил опять голову.
— Э! Э! Так вот на что дядюшка Радивонович свел! — послышалось в толпе.— А что? Ведь правда,
правда! Хоть и потратимся мы чем пану писарю, так он же нам и отслужит! Правда!
— Дозвольте мне слово сказать,— начал было один мужичок средних лет, но уже видевший свет, ходивший по дорогам, бывший в Херсоне и даже в Одессе. Приготовлялся он сказать что-то многое, да знахарь остановил его, махнув рукою и молвив:
— Знаю все, что ты, Васильевич, сказать хочешь. Видел я твою думку еще прежде тебя. А посмотри-ка лучше, что скажет твой конь?..— Тут он опять замолк.
Услышав такие таинственные слова — и от кого же? — Васильевич даже побледнел. Подобная речь от дядюшки Радивсшовича, знахаря, известного во всем околотке, знахаря, который никогда не сказал слова по-пустому, чтоб не сбылось оно когда-нибудь неотменно, хоть бы через десять лет,— такая речь была ужас! Тем более, что Васильевич купил лошадь, по виду добрую, заплатил за нее пятьдесят рублей, а как привел домой, то и нашел, что лошадь-то больна. Давненько лечит он ее, но, стыда ради, не хвалится никому о своей ошибке. А дядюшка Радивонович уж и знает!.. Да как и не знать ему чего? Притом же сказал он так загадочно, что Васильевич боится, чтоб слова его не предвещали погибели лошади. «Сгинь их голова! — подумал он.— Велико дело отложить по малости для пана писаря? А прогневлю знахаря — беда!» Так подумав, он покачал головою и примолк.
Заставив молчать всех, знахарь окинул громаду оком и произнес:
— Что же? Кончайте дело, я от мира не отстану. Положите что пану писарю или нет, напишите и меня. А чтоб не ходили за мною, так вот мой карбованец.— Тут он положил на стол серебряный рубль, прибавив:—Прощайте, панове громада! Я бы побыл на раде, да некогда, надобно ехать на хутор к Дмитрию Петровичу: барыня его крепко больна, лекаря городские испортили ее своими леками, трудно теперь поправить, хоть бы и мне!
Вся куча проводила его. Преспокойно пошел он домой, а старики принялись снова трактовать о решенном уже деле. Тут они нашли, что дядюшка Радивонович все правду говорил, и удивлялись, как эта правда никому, кроме него, в голову не пришла. А потому, подав руки' подписать за них приговор «о награждении пана писаря», затем разошлись спокойно. Из возвращающихся были и такие, которые не говорили, а думали себе, и то оглядываясь, чтобы кто не подслушал их мыслей: «Жаль денег для ненасытного пана писаря, а что будешь делать? Дядюшка Радивонович пожелал так. Можно бы и не согласиться, но жена и дети дороже; нашлет на них беду, что тогда делать?»
Так-то много значит в целой волости один знахарь! А каждая из них во всех наших губерниях имеет своего, состязающегося в славе с другими, живущими в около лежащих селениях. Народ так привык верить, что непременно в куче их есть один «знающий слово», могущий наслать беду, отвратить успех в предпринятом деле, помешать свадьбе, испортить скотину или напустить болезнь на семью, на село. Народ так привык, говорю я, что если нет охотника на такую славу, то придадут ее кому-нибудь против воли; не отбожится, не отмолится человек, что он ничего не знает. «Как-то не знает? — рассуждают они.— Поверь ему! А отчего же он ходит, повесив голову? Отчего редко взглянет на кого, а если и взглянет, так неспроста? Вон встретил Марка, да и спросил его только: «А куда ты? Домой? Поспешай, поспешай!» Марко пришел домой: глядь, у него дал бог родины!! Как же бы он это сказал, не знавши ничего?! Нет, знает, непременно знает!» Вот от молвы и пошел человек быть знахарем. Все пустились к нему, все ищут через него счастья или просят избавить от беды.
Сметливому и расчетливому человеку немного стоит сделать тут свою славу. Не нужны ему ни опыт, ни учение, ни сверхъестественные действия,— все при маленькой хитрости придет само собой.
Вот, например, наш, которого все жители, господа и простые, знают под именем дядюшки Радивоновича, смолоду вовсе не обещал, чтоб&1 из него вышел знахарь. Был он весельчак, краснобай, на свадьбах первый танцюра, на сходбищах неумолкаемый джмут. Послушайте же, какой случай нарек его знахарем. О, случай! Случай да уменье- великое дело.
Дядюшка Радивонович был еще парубком и звался просто Данило. В одну ночь, нагулявшись на вечерницах, в веселом расположении духа возвращался он домой с товарищами. Проходя мимо хаты Кирика, старика бессемейного, болевшего уже пятая неделя, видит он в окне большой свет. Оставя товарищей, Данило подошел к окну, и что же?.. Кирик успокоился; лежит на лавке, покрыт церковным покровом, над ним ярко горит ставник; в углу же, свернувшись, две старушки спят крепким сном. Вздумалось Данилу попроказничать. С одним товарищем входит тихо в незапертую дверь избы, с осторожностью, без шума, чтоб не разбудить старух. Шалуны снимают мертвеца с места, ставят его у дверей, подперши чем попало, и дают ему в руки длинную кочергу. Устроив все, молодцы тихомолком выходят из избы. Тут Данило, подойдя к окну, крепко стучит и кричит во весь голос:
— Добрый день!
— А кто там? — хрипливо спрашивает одна из старух, пробудясь.
— Свои,— отвечает Данило.— У вас светится, дозвольте попросить огня: запалить люльку.
— А вот встану, погоди немного,— поворачиваясь и покашливая, бормочет старуха... И вдруг вскрикивает не своим голосом: —Ох лихо! Явдоха, Явдоха!..
Явдоха просыпается и, зевая, спрашивает:
— А чего ты, Домаха?
— Смотри!.. Кирик!..— едва может выговорить Домаха.
Явдоха взглянула на лавку, Кирика нет там; Кирик с кочергою гуляет по хате и остановился у дверей... Дрожа всем телом, бросились старухи на печь. Кричат, визжат, от страха дух им захватывает.
— Ой лишенько!.. Пропали мы с душами!.. Кто в бога верует, помогите! Ратуйте! Ратуйте!..
Дав им накричаться, Данило опять стучит в окно и, перекричав старух, спрашивает: что случилось?
— Глянь... глянь на дверь!.. Ох, лишечко наше!..— вопили они.
Данило заглянул в окно заметив, что старухи наблюдают за ним из-за печи, значительно покачал головою.
— Что ты это, дядя, делаешь?—сказал он.— Шалишь, как мальчик какой! Кстати ли тебе так пугать добрых своих соседок! Не бойтесь, тетушки, я сейчас все исправлю.— С сими словами вошел он в избу, осторожно проходя близ покойника, чтоб не повалить его.
Увидев, что Данило безбедно прошел мимо страшного мертвеца, старушки приободрились, вылезли из-за печи и начали просить Данила:
— Что хочешь возьми, только освободи отсюда наши души. А когда знаешь в чем силу, угомони его, чтоб лежал смирно!.. Мы так перелякались, что чуть живы; выпусти, покуда еще дух в нас есть.
— Не бойтесь, тетушки, вовсе ничего не будет,— успокаивал их Данило, засучивая рукава и приготовляясь к какому-то действию.
Старухи, ободрясь, решились не уходить, чтоб видеть, что произойдет. Обратясь к мертвецу, Данило начал говорить, как будто живому:
— Стыдно, дядя, так проказить. Полно, иди ложись на место... Подай сюда кочергу!.. Видишь! Еще не дает!.. О, да ты, брат, меня не знаешь!.. Мараба! Тараба! Параба!—С этим словом он выхватил кочергу, откинул подпорки, схватил на руки валящегося мертвеца и закричал: — А! Ты еще и бороться со мною вздумал! Так нет, дядя, не на того напал! Туруру! Буруру! Маруру!—и, крепко облапив тело, Данило дотащил его до лавки, положил и, приводя все в прежнее положение, приговаривал: — Не по своей силе ты вздумал, дядя, спорить со мною! Силен и ты, правда, а что? Кто кого поборол? То- то же, смотри у меня! Приказываю тебе отныне и до века лежать смирно, не пугать добрых людей; не то — я близко! Не бойтесь теперь, тетушки, уж он вам ничего не сделает.
Старушки неохотно, однако же, отпускали Данилу, но продержали его, пока рассвело и пришли прочие соседи.
Еще утром по всей слободе пошла страшная весть, что когда над умершим Кириком ночью сидели соседки, Домаха и Явдоха, он в глазах их вдруг встал, схватил кочергу и принялся колотить их, приговаривая: зачем в молодости не пошла ни одна за него! Наверное, он перебил бы их насмерть, если б не явился,— кто его знает, как и откуда,— Данило. Бросившись на мертвеца, он начал бороться с ним. Страшно было смотреть на них: то Данило одолеет, то мертвец свалит Данилу... Наконец Данило не выдержал, сказал какие-то ужасные слова... Хата потряслась, мертвец грянулся о пол, Данило же внезапно неизвестно как и куда девался, а старухи, напуганные порядком, положили покойника и всю ночь сидели над ним, беспрестанно говоря как будто с присутствующим Данилом, чтоб мертвец боялся и более не вставал.
Не знаю наверное, случилось ли это так, как рассказывают старухи или как я рассказываю; кто-нибудь из нас, конечно, лжет; верно, однако же, то, что про Данила пошла молва, будто он кое-что знает и чуть ли не с тех пор, как, помните, проходил какой-то москаль и ночевал у Данила, верно, он научил его всему.
Знал Данило об этой молве, но ему мало ее. У него была дядина в третьих, промышляла она печением бубликов, да как-то неудачно сбывала свой товар. Напротив того, Скиданка, другая торговка этим лакомством, не успевала напекать, так у нее расхватывали, почти из печи покупали.
Вот однажды, уже к вечеру, Данило, подойдя к куче разговаривающих женщин, подсел к ним с бубликами в руке. Замолкли что-то женщины, а Данило, доедая предпоследний бублик, начал похваливать:
— Что за мудрые бублики печет эта Скиданка! На удивление! Ешь не отъешься от них! Один только остался, спрячу, после ужина полакомлюсь!
Вынув из-за пазухи платок, Данило завернул в него бублик и положил опять за пазуху. Долго говорили о том, о сем, и нечувствительно речь пала опять на преотменные
бублики...
— Посмотрите, тетушка, что за тесто! Разломишь, так глядеть завидно! — С этим словом вынимает Данило из-за пазухи платок, разворачивает... вместо бублика... страшно сказать... змея! Ей-богу, змея!.. Живехонькая, свернулась так же бубликом, а сама движется и головку выставляет. Как увидели это все сидевшие, так и ахнули! От ужаса не могли слова вымолвить! Данило же, покачав головою, сказал:
— Ну, Скиданка! Хорошими бубликами ты меня было накормила! Куда тебе справиться со мною!
С тех пор кончилась мода на Скиданкины бублики. Никто не покупает ни одного. Помилуйте, как покупать? Съешь бублик, ан это не бублик, а живая змея! О Даниле же еще большая пошла слава, и не только по своей слободе, но и в соседних начали знать его, потому что Скиданка, поверявшая здесь кредит, должна была перебраться в другую слободу, где желая опорочить Данила, рассказала, что он ее бублик превратил в змею, не понимая, что тем сама еще больше прославляет знание его. Дошло до того, что некоторые знахари из других селений приезжали учиться у молодого Данила. Они сами знали все, но от змеи не знали слова. Он научил их каким-то таинственным словам и наставил, как при этом должно взять змею за шиворот... Но это важный секрет... Не скажу вам. «Теперь видимое дело, что наш Данило знает кое- что,— говорили старики, беседуя между собою.— Посмотрите, парень еще молодой, что ему? Двадцать годов с небольшим, а глядите, как подпоясывается? От молодых отстал и все придерживается старичков, все подражает им: ходит важно, не очень-то по сторонам зевает, с кем встретится — не разговорится, а все свое думает».
«Что сталось с нашим Данилом?—толкуют парубки.— Отстал вовсе от нас. Никогда не выйдет поучить нас новой песне или игру затеять. Чего он ходит, как будто потерял что? Да как же ему и быть иначе? Пустился в знахари. Сам объезжает их по соседству, и все к нему приезжают. Так ходит, так смотрит, как совершенный знахарь. Да и родился на то. Чего уж он не знает!.. Змей в руки берет!.. Пришел на наши вечерницы, сидит себе и — ничего. Вдруг сказал: «А что, хотите, я вам накличу змей полну хату?» Мы как услышали, так и разбежались все кто куда! Невесело было бы сидеть между змеями!.. Родится же такой умный человек, что все и от всего знает!»
«Хорошо я сделала,— говорила Варька своим подругам-девкам,— что не посылала к Данилу, чтоб сватал меня. Как видно, так он совсем знахарем стал. Вчера мой батько с ним что-то поспорил, приходит домой, а мать и жалуется, что корова перестала молоко давать. Данило все это наделал, уже некому больше; у нас в слободе никого такого нет. Хороша бы я была, если бы за него вышла! Он бы и мною ворожил, да чего? Не скрылась бы от него ни в чем-таки... ни в чем».
С ужасом выбежала Мелашка Потапиха к прочим хозяйкам, сидевшим в рабочий день на улице с работами в руках. От страха она едва могла говорить.
— Знаете ли, соседушки-голубушки, что случилось со мною? Муж мой в поле. Бык у нас захворал, так мой Потап выпросил у Герасима, того самого, что, помните, купил об Алексеевской ярмарке, у Дериполы, кажется, за сорок ровно, не то с рублем,— вот уж этого не могу вам сказать. Ну и нужды нет... Так вот муж мой в поле, а у него уже такая натура: пока не кончит, не бросит дела; я к нему применилась и знаю. Один раз — вот-то смех был! — починяет он сапог вечером при свечке, а это было против четверга... какое?.. Против четверга я платья бучу, а тут, помню, шила рубаху, не мужу, а просила меня кума из Колодяжного хутора; знаете, отдавала дочь замуж, так я и помогала ей обшить девку... О, да и девка-то важная была... Нуте, так я, знавши мужнину натуру, что он, не кончивши работы, не воротится домой к вечеру стала было варить ему кое-что. Как вдруг вошел Данило, а он у нас редко бывает. «Тетушка,— говорит,— нет ли у тебя нового горшочка, в котором бы ничто сроду не варилось?» Я, слышав, что про него люди говорят, что он знахарь, так испугалась, что опустила руки, да и говорю: «Есть».— «А пожалуйте мне». Я и подала. А он, вот ей-богу правда, вынул из кармана какие-то травы, положил в горшочек, налил водою, принесенною с собою в бутылке, поставил на огонь да сам и начал шептать что-то такое страшное, что я ничего и не разобрала. Стою себе ни жива ни мертва. Простудив отваренную траву, Данило влил воду в бутылку, а траву завернул в бумагу и пошел, да крепко наказывал, чтоб я никому не рассказывала. «Это,— сказал он,— на помощь людям, так не годится всякому знать». Я ему побожилась, что никому не скажу! Пожалуйста, соседушки, не говорите и вы, чтоб он не наслал мне какого худа...
Так кончила Потапиха двухчасовый свой рассказ, со многими отступлениями, которые я решил не включать в это сокращение.
— Можно ли, чтобы мы кому сказали? — заговорили все соседки вдруг.— Разве ты нас не знаешь? Мужикам своим не скажем.
— Я только и скажу,— сказала одна,— своей соседке: у ее кума дитя больное, пусть сходит к Данилу. Когда варил зелье какое, то верно уж это лекарство.
— Надо и мне сходить ~к своей дядине! у нее сын чахнет.
— И мне...
— И мне...
И вот все, обещавшие хранить в тайне пересказанное им, пошли разносить по всей слободе и пересказывать, также за тайну, всем родным и знакомым. Кандидат в знахари ловко все рассчитал и метко совершил выбор поверенного своей тайны. Предвидя последствия, он тотчас приготовился, зная, как нетерпеливо любопытство.
Только лишь настало утро, у него собралось несколько женщин с ребятами грудными и едва ползающими, с детьми малыми и большими. Мужчины, женщины и старухи пришли и стояли около хаты, во дворе и около двора; все хотели войти, но никто не смел первый помешать важным занятиям Данилы. Стоявшие близ окон и дверей видели и слышали хозяина дома, замечали, что он знает о приходе их, но, не получая дозволения войти, не решались даже просить о том. Не скоро уже самые нетерпеливые и отважные, пробравшись сквозь толпу, осмелились проникнуть в хату. Войдя, по обычаю помолились, приветствовали хозяина. Но он, стоя у стола, не глядел на них. Стол был уставлен разными горшочками, склянками и завален пучками разных трав. Данило смешивал жидкости в горшочках по выбору и сливал в склянки разных видов и мер, травы же собирал из разных пучков по нескольку, сворачивал вместе и откладывал по сторонам. Все это делал он с большим вниманием, не глядя на пришедших и нашептывая что-то... Предстоящие не смели шевельнуться и с благоговением смотрели на важные действия. Вот он кончил, окинул глазами присутствовавших и как будто тут впервые заметил их.
— Что вы скажете, люди добрые? Зачем пришли? — спросил он их, убирая в сторону все приготовленное.
— А вот пришли мы,— начали говорить несмело и все по частям, как в старину наши бояре правили посольские речи,— слышали, что помогаешь в нужде... Вчера варил зелья... Помоги и нам...
— Что за народ такой! — восклицает Данило будто про себя, ударив руками*о полы и садясь на лавку в конце стола,— Вчера так пришлось, негде было больше, как у Потапихи, сварить кое-что, а она и распраповедовала по всей слободе! О женский язычок! Я, люди добрые, такой же грешный, как и вы. Учиться нигде не учился, да этому и не учатся. Это не есть какая наука, как сапоги пошить или свиту скроить. То лекаря одуряют народ, что они обучены лечить других. Неправда! Этому научиться не можно, а дается оно человеку особенно. Кое-что знал, то и приготовил. Сам хотел идти к тем, кому нужно и кому пособит, а вы все пришли ко мне. У меня помощь от болезней есть, а от смерти никто не избавит.
Пока он это говорил, в хату набилось много народа, особливо женщин с детьми на руках; к одной из близстоявших Данило тут же обратился и, увидев на руках ее двухлетнего мальчика, больного, высохшего, сказал: «Вот как, и ты принесла своего! Кто ему поможет? Неси, давай ему есть, чего пожелает, пусть наедается». Женщина, залившись слезами, вышла от знахаря. Всем встречающимся она говорила, рыдая, что Микитка не выдужает, знахарь сказал, что он умрет, и велел кормить перед смертью всем, чего он только пожелает.
К другим Данило был милостивее. Только взглянет на иного ребенка, тотчас и узнает, отчего он болен. Но прямо не скажет, а все намеком. «Все зависть! — с упреком говорит он.— Чего тут завидовать на чужое дитя? Кому какое бог счастье в чем послал: кому в худобе, а кому в детях, так надобно ли волю давать глазам! Ох, глаза, глаза!» Да тут и даст какой воды, или травы, или порошка, и наставит, как принимать.
Иного дитяти хоть не подноси и не подводи: не хочет и смотреть на него. Бедная мать оплачет его заранее, когда уже знахарь и не взглянул, а только рукой махнул и отворотился,— видимое дело, что ребенок умрет. А вот он выходился. «Что ж, знахарь отгадал,— говорит мать,— не дал лекарства, рукой махнул; это значило, что он и без лекарства выздоровеет. Экой знающий наш Данило!»
Кроме приносимых и приводимых детей, были и взрослые: молодой парень жаловался, что одна женщина, злая на него, что он не сватал ее дочери, поднесла ему что-то в водке. Он выпил и чувствует, что у него в животе развелись змеи, сосут сердце, он видимо сохнет. Дано лекарство. Дано и всем жаловавшимся на болезни, насланные и происшедшие от подобных же причин. Одним розданы засушенные корешки, другим засушенные головки, кости лягушек, ящериц и пр. с наставлением носить на шее «тридевять» дней, чтобы отошла насылка и впредь не приставала.
Приходили и старухи, едва державшиеся на ногах. Все жаловались, что от лихих людей нет им житья; одной соседка похвалялась: будешь-де ты меня помнить! — с тех пор ее задушает кашель. Другая жаловалась, что Кондрат, старый мельник, посмотрел на нее так пристально, что у нее ноги подкосились и что с тех пор с трудом может она пройтись по хате. И все они жаловались на болезни, на недуги, насланные от злых людей,— никто на старость. Знахарь наделял снадобьями и обещал, но всегда так запутано, что нельзя было решительно угадать, предсказывал ли он выздоровление или смерть. В первом случае дивились его искусству, во втором — его предвидению! «Сказал же,— говорили люди,— когда будешь пить лекарство, все пройдет скоро; так и вышло, третьего дня не пережила,— скоро прошло все. Удивительно, как знает!»
В деревнях и сосед не приходит к соседу с пустыми руками — всегда приносит хлеб, паляничку и т. п. Как же к знахарю, прося у него помощи, прийти без всего или принесть что неважное? Не можно никак. Вот каждый из приходящих по мере надобности и достатка везет и несет: кто разной муки, кто водки штоф, кто денег; и каждый, участвуя в приношении, вприбавок не называет уже знахаря просто Данилом, а величает, как и других почетных в слободе людей, по отчеству; вот и пошел он «Радивоновичем». Придав же себе наружность поважнее, отрастив бороду, начал подпоясываться хорошим поясом, пошире складывая его и выступая по улице важно, он при каком-то случае вдруг сказал пришедшим к нему за помощью:
— Дивился я, что в соседней волости молодого человека кличут все «дядюшка Семенович». Не знал тому причины, да уж мне другие рассказали. Он, говорят, хотя и молод человек, но много нам добра делает: отводит несчастья, избавляет от всяких болезней. Ну, когда заслужил, так правильна такая честь. Буду и я трудиться, чтоб хотя на старости дожить до почтения.— В тот же день Данило имел удовольствие слышать, что все величали его дядюшкой Радивоновичем, с тех пор кто бы ни проезжал через слободу, слыша, что называют дядюшку Радивоновича, тотчас догадывался, что он знахарь, и сам отдавал ему почет.
С открытия практики знахарь убедился, что он обеспечен в‘своем содержании. Данило оставил заботу о хозяйстве, отцовский скот распродал. Пациенты его и имевшие в нем надобность обрабатывали ему землю, весь доход самым честным образом сдавали ему, не смея обмерить, обвесить или обсчитать его в безделице. Возьми что-нибудь из принадлежащего дядюшке Радивоновичу, так тебя схватит за живот так, что и жизни не рад будешь; приплатиться еще ему же за лечение втрое, нежели что взял, а хвороба в барышах. Дядюшка Радивонович, продав выгодно отцовский двор, купил пригодный для себя дом в конце села, особняк над озерком, а тут же и лесок близко. Так что кто ни взглянет, тотчас отгадает, что там не простой живет. Данило смело мог не запирать в своей хате дверей, потому что самый злой человек побоялся бы сделать ему какое лихо, чтоб не случилось и с ним беды, как когда-то давно пострадал один простак, хотевший обокрасть знахаря.
Он свободно вошел в хату к нему, открыл незамкнутый сундук, набрал пропасть денег, куда только мог у себя, насовал их... А знахарь спит себе крепко и не слышит. Но только лишь вор хотел идти как вдруг, где ни возьмись, явился страшный цап и стал в дверях. Глаза сверкают, изо рта искры сыплются!.. Вор ни с места, и простоял так до рассвета. Знахарь проснулся, посмеялся над ним, велел ему положить деньги назад, откуда взял, и отпустил его... Что же? Тот человек пошел да тогда же и одурел. Не мог ничего больше выговорить, как только: «Цап, цап!» Чего бы ни просил — хлеба или воды, что бы ни вздумал рассказать, все твердит: «Цап, цап!»
Так когда уже в старину так было и верные люди рассказывают, что это именно правда, то кто же пустится на явную беду? Никто и на волос не возьмет из принадлежащего знахарю; хоть бы он что потерял, если кому случится найти, тот приходи хоть в полночь, отдай Сам, а то чтоб после не раскаиваться.
А было бы чем поживиться у дядюшки Радивоновича, как и у всякого знахаря! Еще в первые дни, когда народ пустился к нему за помощью, проезжавший через слободу человек, удивясь такому сходбищу, полюбопытствовал узнать о причине и тут-то услышал, какие чудеса делает новый знахарь, как он всем справедливо предсказывает болезни, вылечивает самых отчаянных, почти мертвых воскрешает! Этот человек поехал далее, возьми да и расскажи по соседним слободам... Батюшки мои! Так и пустился к нему народ со всех мест! Хоть есть везде свои знахари, столь же сильные, столь же знающие, что в них? Все бросились к новому... Около двора дядюшки Радивоновича не можно проехать за телегами, на которых привезены больные, ну, право, верст из-за пятидесяти! Он знал, что оставляют своих знахарей и идут к нему; так чтобы не ссориться с ними, иному больному, не очень страждущему, скажет: «Знаешь, сынок, что? У меня на руках много больных важными болезнями, дай бог мне совладать с ними, а твоя — пустая, с нею и вашего села знахарь справится. Ступай к нему, а нам не мешай».
Иного приезжего больного уж он рассматривает-рассматривает, думает-думает, несколько вечеров шепчет над ним, одувает, потом и скажет наотрез: «Что же? Всякому человеку дано в меру. Иному мало, мне больше, а есть такие, что еще и больше моего получили. Я не могу с твоею болезнью справиться; поезжай в такую-то слободу, явись к такому-то знахарю и скажи прямо, что я тебя прислал. Это только по его силе».
Так любил он правду и не отнимал чужого.
Натурально, что между приезжающими были и господские крестьяне. Получил ли кто из них пользу, иди по предсказанию знахаря умирал, это не могло не дойти до сведения помещиков.
— Нет, моей ноге не легче!—говорил Герасим Николаевич, помещик, живущий в тридцати верстах от дядюшки Радивоновича.— Не придумаю, что и делать? Не послать ли, Мавра Осиповна, в город за лекарем?
— С чего тебе такая глупая мысль пришла? —отвечает Мавра Осиповна любезному супругу.— Неужели не знаешь, что лекаря всех морят? Вот послушай-ка, что рассказывает наша ключница про знахаря в таком-то селении, так это прелесть! Всех вылечивает, кого можно, а не то — прямо скажет, что умрет: так и случится. Лучше бы к нему поехал.
Герасима Николаевича поспешно уложили в бричку и отвезли к дядюшке Радивоновичу! Тот посмотрел больную ногу (кожа была ссаднена), присыпал чем-то, пошептал две зори, дал воды пить по три вечера и отпустил пациента. Приехал Герасим Николаевич, сам выскочил из брички, взошел на крыльцо, предстал пред Маврою Осиповною, топнул бывшею больною ногой и пошел себе ходить! Увидев мужа со здоровою ногой, Мавра Осиповна так разинула рот от удивления, что не могла его закрыть в течение двух часов, пока Герасим Николаевич рассказывал все чудесные исцеления, произведенные удивительным знахарем.
— Жестоко страдающему больному,— говорил он,— становится легче не только от лекарства, но когда этот чудный человек лишь пошепчет над ним, ощупает, обдует или хотя даже взглянет! Я спрашивал его, откуда он почерпнул такую премудрость или кто научил его. Божится, что никто не учил его ничему, а что все это пришло ему через сон, в молодых летах, и он тотчас мог уже повелевать мертвецами, которые встают из гробов! Змей превращает в разные виды... и все такое!.. Это удивительный человек! Это филомел! Достойно о нем в газетах напечатать! Сам говорит, что ему обещано чрез пять лет, чрез сон же, научить еще большим мудростям. Увидим тогда... Но и теперь это просто чудо!
Герасим Николаевич приказал запрячь бричку и пустился объезжать помещиков, рассказывая об открытом им филомеле, о необыкновенном исцелении своей ноги и о всех чудесах, виденных собственными его глазами.
Помещики, выслушав Герасима Николаевича, в свою очередь приказали запрягать брички и пустились к дядюшке Радивоновичу: кто за советом, кто прося приехать к нему в дом посмотреть больного в семействе. Знахарь не вдруг решался в отъезд, устраивал больных около находящихся и, подшутив над помещиками, верующими докторам, которые учатся у таких же людей, пускался в путь. Он осматривал хворых, давал свои лекарства, шепотом прогонял болезнь, а если среди его уверений и обнадеживаний в скором выздоровлении больному делалось хуже или он умирал, знахарь не терялся, в оправдание свое он говорил: «Не так он был болен, чтобы ему выздороветь; я это видел, но тешил вас только». Иногда же он складывал всю вину на докторов, прежде лечивших больного: «В нем нет никакой болезни,— говорил он,— осталось только лечение этих обманщиков, что может его истребить». В ином случае он говорил: «Делать нечего, попробую последнее: дам эту воду; когда не умрет к вечеру, то выздоровеет». И всегда отгадывал; больной нередко до суток умирал от чудесной воды, и слава об знахаре распространялась все больше и больше. Не обращали внимания на то, что больной умирал, но удивлялись, что предсказание знахаря сбывалось верно и почти час в час.
Кроме того, что наш знахарь в большой везде славе, в почете от всех, не только сельское начальство, все помещики уважают его. Нет ему от них другого названия, как дядюшка. Возят его в бричках, а случается и в коляске четвернею. Не один уже раз привозили его в город отшептывать у судейши рожу, то есть на лице рожу. Да чего? И сам откупщик приидите поклонимся к знахарю, когда за ужином, бывало, плотно поел да к утру чуть не умер. Беда, если бы, словно на крыльях ветреных, на переменных пожарных лошадях не примчали нашего знахаря. Тот только осмотрел, тотчас чем знал, тем и помог сразу.
Кроме славы и чести, что за богатство у знахаря! Сколько у него денег! Сколько платья и всего прочего! Все дарят его, никто не пожалеет последнего, помоги только... Он помогает или отгадывает, а они его обдаривают. Да, богатства много у знахаря, но с кем же разделить его? Один он, одинешенек: и присмотреть за домом, и знать, что в доме, некому. Нельзя было знахарю открыть такое дело; дана ему сила большая, а как с нею жениться в молодых летах? Женясь до тридцати лет, пришлось бы ему бросить свое призвание, а может быть, и сама сила оставила бы его. Продолжай же он свое дело, какая девка решится за него идти, зная, что он есть не простой? Довольно подумать, что он все будет знать за женою... самые думки женины будут ему известны; ну, а как она такой же человек... да в случае чего... пожалуй! А он все знает, хоть и не скажет ему никто!.. «Нет, беда! Не хочу, не пойду за него!» — так думала всякая девка, когда он был еще молод.
Теперь, как ему перевалило за тридцать лет, то и вовсе нельзя уже ожидать, чтобы которая-нибудь за него решилась идти. Но дядюшка Радивонович не терял надежды. Между занятиями своими, проходя по улицам и наблюдая, подметил одну девку, перешедшую за двадцать лет; в крестьянском быту она уже засидевшаяся, чарочкою обнесенная. Девка была чернявая, полная, здоровая, веселая и проворная, но к работе она была неохотна. Все бы ей пересмехать других, примечать за всеми, осуждать, кто на глаза попадается; а как она была на речи бойкая, то никто и не думай ее переговорить. Потому-то женихи браковали ее, и oнa не обращала уже их внимания на себя. Но, собственно, знахарю такая жена — клад: где он со своим знанием, тут она будет со своим язычком. Он осматривает больного, а она уже у соседок, и расспросила да и разведала о нем подробно. К знахарю пришли просить помощи в отыскании лошади, а жена успела узнать, когда лошадь пропала, какой она шерсти... Да так и во всем: половина дела за нею. Такая жена — двойная помощь знахарю.
Дядюшка Радивонович, высмотрев хорошенько эту девку и уверившись во всех ее нужных ему качествах, искал случая поговорить с нею, чтоб условиться. Вот в один вечер, возвращаясь от пана писаря, где был на угощении, поворотил он в переулок — навстречу ему Одарка, с которою он так давно желал говорить.
Без дальних предварений он взял ее за руку и, положив ей свою руку на плечо, глядя сколько мог умильно, начал с ласкою делать ей предложение и объяснил прямо, чего он требует от жены своей, предоставляя ей за то пользоваться богатством безотчетно. Одарка, потерявшая всякую надежду слышать от кого что-либо подобное, чрезвычайно обрадовалась, что обратила на себя внимание такого человека, и вмиг сообразила выгоды от этого замужества, не боясь при том всезнания знахарева, которое понимала очень хорошо. Выслушав все без застенчивости, смело смотря ему в глаза, она согласилась на предложение и тут же от полноты чувств предложила некоторые улучшения в обращении его с приходящими к нему за помощью.
Устроив и расположив все по желанию, любовники разошлись... Вот через несколько дней разнеслась молва, что дядюшка Радивонович взял за себя Одарку Танцюривну и что свадьба была самая тихая, скромная, без всяких порядков. Никто не удивлялся такому браку, никто не завидовал ни мужу, ни жене... Но между тем эту Одарку начали почитовать по всей слободе, и уже не иначе зовут ее, как тетушка Одария. А кто большую имеет надобность к дядюшке Радивоновичу, тот и жену его возвеличит и почтит: Климовна Одария! Супруги зажили себе отлично. Каждый из них исправлял свое дело, как должно. Через проворство и сметливость жены слава мужа увеличилась еще более. Все знает он: может сказать, у кого из живущих в слободе с чем варится в тот день борщ, за что поссорились такие-то и все подобное. Часто в пропаже вовсе и не подумают на кого, а знахарь прямо откроет, что тот-то украл; так на поверку и выйдет. Все это поразведает бойкая жена его. Наконец и о ней такая прошла слава, что она чуть лй не столько же знает во всем силы, как и муж ее.
В таком-то от всех уважении, довольстве, семейном согласии, а главное, в такой независимости знахарь спокойно доживает век. Нет для него непредвиденных стеснительных обстоятельств: он упрочил будущее, все расчел, удалил от себя всякие возможные неприятности; он сила, и сила важная! Не боясь никого и ничего, он может своим словом, даже взором пугать и беспокоить, кого ему нужно... Чего же более для счастья человека? Так доживает свой век знахарь и оставляет место другому, равно сметливому и знающему... людскую натуру.
Вот верное изображение сельского знахаря, лица во всех отношениях достойного внимания. Замечают, будто бы знахари изводятся, будто их менее ныне в селах,— не ошибка ли в выражении? Но переводятся ли они? Не увеличивается ли число их вне сел? Конечно, знахари высшего разряда и в высшем положении в частностях действий — не то, что эти... Большому кораблю большое и плавание; но в основах натуры своей?.. Сравните и судите.
Твори
- Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе (Оригинальная комедия в 5 действиях)
- Дворянские выборы в двух частях, часть первая (Комедия в 3 действиях)
- Турецкая шаль, или Так водится (Комедия в 3 действиях)
- Дворянские выборы, часть вторая, или Выбор исправника (Комедия в 4 действиях, в прозе)
- Шельменко - волостной писарь (Комедия в 3 действиях)
- Ясновидящая (Комедия в 4 действиях)
- Сватання на Гончарівці (Малороссийская опера в 3 действиях)
- Шельменко-денщик (Комедия в 5 действиях)
- Вояжеры
- Щира любов, або Милий дорогше щастя
- Мертвец-шалун (Шутка в 2 действиях)
- Бой-жінка (Водевиль-шутка в 1-м действии)
- Салдацький патрет
- Маруся
- Мертвецький великдень
- Добре роби — добре й буде
- Конотопська відьма
- От тобі й скарб
- Козир-дівка
- Сердешна Оксана
- Щира любов
- Божі діти
- Перекотиполе
- Пархімове снідання
- На пущання — як зав'язано
- Малоросійська биль
- Підбрехач
- Ганнуся
- Знахарь
- Званый вечер
- Очки
- Пан Халявский
- Головатий
- О слободских полках
- История театра в Харькове
- Григорій Квітка-Основ’яненко. Дворянские выборы, часть первая, или Выбор предводителя
- Григорій Квітка-Основ’яненко. Воззвание к женщинам
- Григорій Квітка-Основ'яненко. Песенка, или полубыль
- Григорій Квітка-Основ'яненко. Каламбур
- Григорій Квітка-Основ'яненко. Эпитафии. Мне
- Григорій Квітка-Основ'яненко. Двойные акростихи
- Григорій Квітка-Основ'яненко. Приключение на именинах
- Григорій Квітка-Основ'яненко. Мысли в день моего рождения
- Григорій Квітка-Основ'яненко. Ответ на ответ
- Григорій Квітка-Основ'яненко. О новом сочинении Любови Кричевской
- Григорій Квітка-Основ'яненко. От так ти москаля одури!
- Григорій Квітка-Основ'яненко. Письма к издателям
- Григорій Квітка-Основ'яненко. Письма к лужницкому старцу
Критика
- Філософська повість в Україні
- Про деякі особливості реалізму Квітки-Основ'яненка
- Словник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка та його текстологічні засади
- Волосний писар ХІХ ст. у рецепції сучасників
- Жанр фейлетону у творчості Г. Квітки: проблематика і поетика
- Квітка-Основ’яненко: Як Фалалєй Повінухін на спір заснував українську прозу
- Сергій Єфремов. Історія українського письменства. Квітка
- Екранізація літературних творів Григорія Квітки-Основ'яненка у контексті радянського фольклорного кінематографу
- Семіотизація минулого в романі Г. Квітки-Основ'яненка «Пан Халявский»
- Фольклоризм як засіб індивідуалізації образів у повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся»
- Українська народна кулінарія XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами художніх творів Г.Ф. Квітки-Основ'яненка)
- «Олітературення» фольклорних жанрів в оповіданнях Г. Квітки-Основ’яненка
- Г. Квітка-Основ’яненко писав повість «Ганнуся» «...для слави слобожан»
Відео















